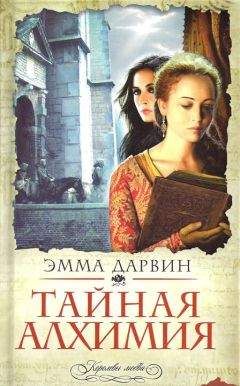— В это… трудно поверить. Я…
— Мы думали, что ты, возможно, мертв, — говорю я. Когда ко мне пришел этот гнев? — Почему ты не написал нам, где ты?
— Я… — Марк поворачивает голову.
— Пойдемте, найдем что-нибудь выпить, — быстро произносит дядя Гарет.
Я отворачиваюсь, чтобы исподтишка вытереть глаза.
— Все в мастерской, Марк, — продолжает дядя Гарет. Он показывает путь, хотя засов на задней двери некоторое время дребезжит, прежде чем дядя его поднимает.
Идя передо мной через сад, Марк оглядывается со спокойным любопытством, как чиновник страховой компании. У него всегда были светлые волосы, такими они и остались, потому что седые пряди не бледнее белокурых, они коротко и аккуратно пострижены над его широкими плечами. Марк ширококостный, но движется легко, со свободной уверенностью. На нем тесный свитер и очень чистые джинсы. Он всегда был высоким: высоким, светловолосым и тихим в сравнении с нами — маленькими темноволосыми Приорами.
Мой гнев пресекает странный, необычный жар, который зигзагами проносится по мне, пока я не начинаю дрожать. Я рада, что Гарет сует в мою руку стакан виски.
— Я знаю, что ты все еще Уна Приор, — говорит Марк.
Откуда он знает? Мне хочется кричать. Он что, наблюдал за нами?
— Да, но я была замужем, — говорю я. — Его звали Адам Марчант. Он был доктором. Мы жили в Австралии, и он умер два года тому назад.
— Мне очень жаль. — Вот и все, что он отвечает.
Но раньше одним из самых лучших качеств Марка было то, что он всегда говорил только правду и — с надлежащей добротой и тактом — только то, что думал.
Я вдруг ловлю себя на мысли: «Он был как хорошее яблоко».
Будто легкий шок сбил меня с будничного образа мыслей.
«Как одно из яблок из сада тети Элейн, бленхим, крепкое и хрустящее, только что сорванное с дерева, или как приправленное корицей яблоко дарси, приберегаемое в кладовке на Рождество».
— Ты в порядке? — глядя на меня, тихо спрашивает Марк.
Я киваю — что еще я могу ответить?
Марк всегда беспокоился обо всех. Всегда.
Это чувство утешает, а вслед за ним приходит осознание… чего? Не знаю. Я сконфуженно думаю, что у этого чувства должно быть название.
Но, глядя сейчас на Марка, пытаясь разобраться в чувствах, которые я ощущаю лишь как струйку воды, бегущую вниз по спине, и странную дрожь в животе, я понимаю одно: как же сильно я любила Адама. Я впервые понимаю это, увидев Марка.
Марка, который был моим прошлым столько лет, пока Адам не залечил эти раны. Может, именно потому потеря мужа причинила мне такую боль. Когда он умер, тропы горя уже были проложены для меня.
А теперь Адам мертв. Время внезапно обратилось вспять. Адам, чей голос я все еще слышала в комнате с бликами, отбрасываемыми рекой, чьи руки я все еще чувствовала, — он притягивал меня к себе — это прошлое, которое призвал обратно Марк. А Марк, который был прошлым, — настоящее.
— А ты? Ты женат? — спрашивает Гарет.
И внезапно тоска по Адаму настигает меня, как удар в живот.
К тому времени, как Адам умер, мы уже находились за пределами желания, но я все равно любила его тело. Если бы я могла перенести то, что переносил он, я бы с готовностью это сделала.
Да, я скучаю по Адаму, мне хочется его обнять, вцепиться в него и никогда не отпускать. Адама, который может заставить мое тело жить.
— Нет, — отвечает Гарету Марк. — Но добрых десять лет у меня была подруга, Джейн. Теперь она перебралась в Канаду. Я все еще вижусь с ее дочерью. — Лицо Марка озаряется. — Ее зовут Мэри, хотя теперь она зовет себя Морган. — Он оглядывается по сторонам. — Как идут дела «Пресс»? Иногда я просматриваю обзоры в журналах «Файн пресс».
Итак, он не бросил полностью печатное дело.
— О, очень хорошо, — говорит Гарет, махнув рукой на молчащие прессы за спиной, явно готовые начать работу над последним проектом. — Я делаю иллюстрированную книгу, «Ясон и Золотое руно», и работа продвигается очень хорошо. Иди и посмотри сам.
Они встают и подходят к верстаку, а я думаю: видит ли Марк в Гарете то, что ясно вижу я: дядя все еще дотрагивается до бумаги так, как будто любит ее, обращается с машинами, как терпеливый конюх или пастух, оценивает интервалы, пропорции и формы так же естественно, как дышит. Его глаза смотрят остро, даже когда он показывает Марку то, на что сам каждый день смотрел часами.
Как он может все это бросить?
И если даже он сердится на Марка, я не могу рассмотреть и расслышать этого. Кем же был для него Марк?
— А почему шрифт плантин, а не старый стиль? — У Марка тоже сосредоточенный взгляд.
— Сперва я думал использовать шрифт кентавр, — говорит Гарет, направляясь к полке, где всегда хранил пробы и любопытные неудачи текущего проекта. Очевидно, он все еще хранит их там. — Но этот шрифт выглядит слишком светлым и тонким для клише, и тогда иллюстрации кажутся неуклюжими. Тогда как шрифт плантин как раз нужной толщины. Хотя я испытывал искушение остановиться на кентавре, потому что Хирон был кентавром…
— Хирон? — спрашиваю я, хотя не могу вспомнить этого имени, у Марка тоже непонимающий вид.
— Кентавр, который воспитал Ясона, — объясняет Гарет, беря с полки еще несколько предметов. — Его приемный отец, можно сказать. Вообще-то, это глупый резон для выбора шрифта. Не имеющий ничего общего с типографией. И все-таки… Марк, что ты об этом думаешь?
Взошло солнце, света немного, но достаточно, чтобы нагреть воздух в мастерской. Начинает отчетливо ощущаться масляный, едкий запах типографских чернил, и я вспоминаю, как вошла в мастерскую, чтобы найти дядю Гарета тем воскресным утром, так как мне нужны были даты битв, в которых участвовал Мальборо,[61] а дядя всегда помнил сведения подобного рода.
Еще не успев открыть дверь, я услышала, как работает большой пресс «вандеркук», за которым присматривал тогдашний подмастерье. Дядя Гарет наблюдал за всем этим так, как тетя Элейн обычно наблюдала за щеглом, раскачивающимся на ворсянке: завороженно, неподвижно. Только голова дяди слегка двигалась туда-сюда в такт движениям пресса, когда тот рывками выдавал памятное издание «Алфавита» Эрика Равилиоса.[62] Буква «А», поддерживающая «аэроплан», танцуя, появлялась вместе с «Е», поддерживающей «ежа», а за ними — все остальные. Мех и облака, телеграфные провода, четкие и изящные, как всегда, пара за парой в рабочем порядке — все вплоть до «Ю» — «Юлы» и «Я» — «Ягоды».
Мне было шестнадцать лет.
Дядя Гарет оглянулся, увидел меня, и я задала ему свой вопрос.
— При Бленгейме в тысяча семьсот четвертом году, при Рамильи в тысяча семьсот шестом году, при Ауденарде в тысяча семьсот девятом году, при Мальпаке в тысяча семьсот девятом году, — ответил он.