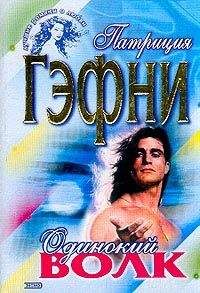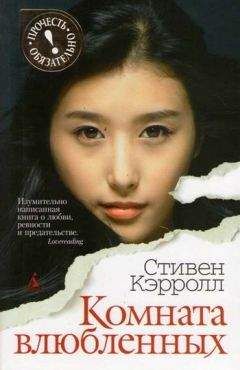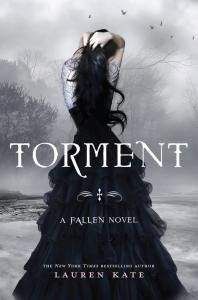– Разве у тебя ноги не болят?
– Почему они должны болеть?
Что это такое – легкий, едва заметный налет в его речи? Его даже нельзя было назвать акцентом, и все же… – Потому что ты бегаешь босиком по земле… Мне казалось, что земля слишком груба… Тебе должно быть больно…
– Нет, – улыбнулся он, как будто она сказала что-то смешное. – Мне тяжело ходить в ботинках. Очень неудобно. Сидни улыбнулась.
– Вот оно что! Мне бы следовало догадаться.
– Сегодня утром я нарисовал твой портрет. По памяти – не глядя на тебя.
– Значит, не с натуры. Так это называется – «рисовать с натуры».
– Не с натуры. Я иногда начинаю рисовать что-нибудь, а потом оказывается, что это все равно ты. Облака над озером или ночные деревья – они превращаются в тебя. Все время так получается.
Настойчивость вознаграждается. То же самое можно было сказать о нежных словах и прочувствованных, из глубины души идущих комплиментах.
Сидни беспомощно покачала головой, не зная, что ответить.
– Сегодня утром я пытался нарисовать, как солнце светит тебе в лицо, но у меня ничего не вышло. У меня нет нужных красок для твоих волос. И для твоих губ. Может, таких красок и вовсе нет нигде, только в твоем лице. Оно бесподобно.
– О, Майкл, – тихо вздохнула она. – Майкл, ты, кажется, хочешь меня обольстить.
– Обольстить? Что это значит?
Он произнес это слово нараспев: в его устах оно прозвучало восхитительно и сладко.
Майкл улыбнулся. Сидни поняла, что о смысле незнакомого слова он догадался по ситуации. «Самые крупные, самые вкусные червяки», – ни с того, ни с сего мелькнуло у нее в голове. Да, сердце птички уже готово было растаять.
Через плечо Майкла Сидни увидела, как Филип в последний раз послал подачу к задней стенке, а затем бегом направился к ним. Она откашлялась, стараясь предупредить Майкла, что они не одни.
– Ты проиграл, – проворчал Филип, выхватив бутылку из рук Майкла. – Шесть-ноль, шесть-ноль, штрафное очко.
Майкл усмехнулся:
– Зато я бью выше, чем ты. И дальше.
– Очень ценное качество для метателя диска. Филип откинул голосы назад и вытер пот со лба. Какие они оба красавцы, – удивилась про себя Сидни. Можно ли сказать об этом вслух? Она сказала бы, не задумываясь, если бы ее чувства к Майклу были менее личными. Нет, в таких обстоятельствах лучше промолчать.
– Ты точно едешь завтра с Сэмом на выставку, Сид? – спросил Филип, растирая шею полотенцем.
– Да, после ленча. Камилла тоже хочет с нами пойти, – добавила она, и глаза Филипа тотчас же загорелись. – Ее родители все еще в отъезде, и она говорит, что ей надоело ходить с Клер и Марком. Хочешь поехать с нами? Филип попытался напустить на себя небрежный вид.
– Ну что ж… пожалуй. Можно и съездить, если не подвернется чего-то более стоящего.
Она заметила, что Майкл бочком отходит от них, храня на лице непроницаемое выражение, как будто не желая принимать участие в постороннем разговоре. А может, это они сами заставили его почувствовать себя чужим?
– Майкл, ты тоже можешь поехать, если хочешь. – Это вырвалось у нее непреднамеренно.
Филип как раз наклонился, чтобы зашнуровать ботинки, и вдруг замер на месте.
– Слушай, это отличная мысль! Ускоренный курс обучения, верно, Сид? И почему же мы раньше об этом не подумали?
Майкл медленно повернулся кругом.
– Поехать с вами? На Всемирную выставку?
Он перевел взгляд с брата на сестру, словно заподозрив, что они его разыгрывают. Потом его лицо осветилось робкой счастливой улыбкой. Он выглядел таким взволнованным и обрадованным, что Сидни стало стыдно. В самом деле, почему они не подумали об этом раньше? Ей хотелось еще на какое-то время оставить его под своей личной опекой, вот в чем было дело. Отчасти. К тому же она была еще не вполне уверена в самом Майкле и не хотела подвергать его риску: вдруг он попадет в какое-нибудь неловкое или унизительное положение, оказавшись в реальном мире? Только вот вопрос: кого она оберегала на самом деле? И кого хотела обмануть?
«Дура, – выругала себя Сидни. – Слепая дура». Она ничем не лучше отца. Нет, даже хуже. Ею двигал эгоизм. Майкл заслуживал лучшего обращения.
Но он не станет ее осуждать, уж это точно.
– Завтра после ленча, – с восторгом повторил Майкл. – Если мы останемся там до вечера, то сможем увидеть лагуну и все огни. Мой бог, – вздохнул он. Вдруг его глаза расширились. – В чем дело? – спросила Сидни. – В чем дело? – эхом повторил за ней Филип. Майкл выглядел, как Сэм в рождественское утро. – Я смогу покататься на «чертовом колесе»!
– Почему ты мне не сказала, что он великолепен? Во Дворце искусств не осталось свободных сидячих мест, поэтому Сидни и Камилла, едва не падавшие от усталости, были вынуждены стоять, прислонившись к свободному участку стеньг, пока Майкл заново осматривал каждую картину во французском зале. Будь у него с собой лупа, подумала Сидни, он наверняка бы ею воспользовался.
– Великолепен? Ты так считаешь?
Она засмеялась, как будто подобная оценка ее удивила и как будто она сама не думала о нем в точности так же, как Камилла, даже теми же словами.
– О господи, ну конечно! И он совсем не такой, каким я его себе представляла. Такой… воспитанный.
– Побойся бога, Камилла! Ты что же думала – он будет носить набедренную повязку и раскачиваться на лианах?
– Честно говоря, да, – сосмехом призналась Камилла. Сидни закатила глаза к потолку.
– Нет, честное слово, Сид, ты только посмотри на него! Он просто… мечта любой девушки. Ну, ты знаешь, что я имею в виду: не вполне респектабельно. Очень романтично. Мои родители наверняка бы его не одобрили. Ты только взгляни на его позу!
Это Филип, чьим кумиром в последнее время стал Оскар Уайльд, научил его стоять в такой позе: сунув руки в карманы, слегка ссутулив плечи и перенеся весь ь вес на одну ногу. Эта поза придавала ему вид бесшабашного светского повесы, то есть совершенно не от– вечала его сути, но Сидни нравилось такое сочетание внешней изысканности с внутренней простотой, делавшее Майкла неповторимым, забавным и трогательным одновременно, бесконечно дорогим ей человеком.
– К тому же у него великолепные волосы! Это правда, что ты сделала ему стрижку? По-моему, он похож на поэта. И в то же время на пирата. Это из-за шрама.
Камилла опять захихикала, и Сидни, не удержавшись, засмеялась вместе с ней скорее из желания не противоречить подруге, чем от искреннего веселья. Ей пришлось не по душе, что Камилла говорит о Майкле так, словно он не человек, а какой-то неодушевленный предмет, пусть даже и «великолепный». А когда Камилла обращалась непосредственно к Майклу, она невольно повышала голос и начинала говорить нарочито медленно, простыми предложениями, как будто Майкл был глухой или умственно отсталый.