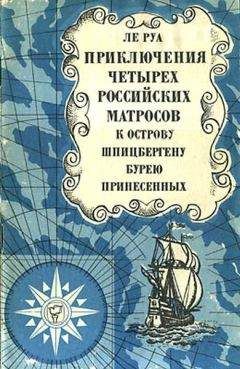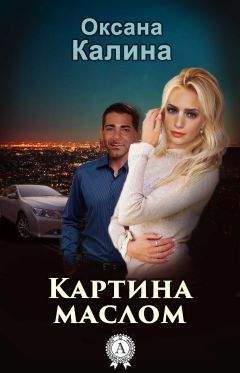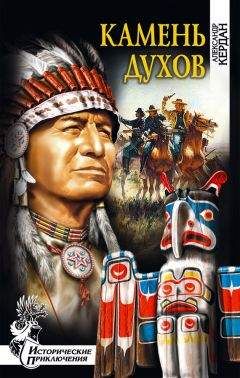К Таранису подошли старейшины.
– В чем, в чем, а в борьбе мы всегда одерживали верх, – напомнили они ему. – Если на этот раз победят они, мы будем опозорены.
– Пошлите за Гоиббаном, – приказал Таранис.
Кузнец был недоволен, что его уже во второй раз используют в чужих интересах, но он не стал оспаривать власть вождя. Гоиббан вышел в центр площадки, где его уже поджидал Дасадас. Судить их поединок должен был Таранис, который объяснил Дасадасу правила. Таранис решил быть предельно беспристрастным в своем судействе, надеясь хоть чуть-чуть восстановить свою добрую славу, прежде чем скифы покинут их, увозя с собой впечатления, которые лягут в основу их рассказов.
– Дасадас уже провел три поединка, а кузнец еще полон сил, поэтому, чтобы уравнять их шансы, – провозгласил Таранис, – Гоиббан будет бороться лишь одной рукой, другую мы прикрепим ремнем к его боку, если он ее высвободит, я засчитаю ему поражение.
Кажак кивнул.
– Это справедливо. Но не связывайте его, пусть борется обеими руками. Дасадас может побороть любого кельта.
На благородное предложение последовал не менее благородный ответ, и собравшиеся захлопали в ладоши, отдавая должное предводителю скифов. Не хлопал только Гоиббан. Он стоял, опустив голову, спокойно ожидая сигнала начать борьбу, и когда он шагнул навстречу Дасадасу, его правая рука была прижата к боку так плотно, будто ее привязали.
Двое борцов заняли стойки; пригнув колени, они кружились, пристально вглядываясь друг в друга. Любое проявление нерешительности или несобранности могло стать сигналом для нападения. Выбрав удобный, по его мнению, момент, Дасадас бросился на своего противника, точно лев, прыгающий со скалы на спину оленя.
Гоиббан стряхнул его с себя одним невероятно сильным движением тела. Кузнец повернулся, все еще прижимая руку к бедру и готовый к новому нападению скифа.
Дасадас буркнул что-то нечленораздельное и вновь прыгнул.
И вновь Гоиббан отбросил его в сторону.
– Гм, – пробормотал Кажак, уже не улыбаясь.
Он стоял рядом с Таранисом, засунув большие пальцы рук за пояс, из-под тяжелых черных ресниц внимательно наблюдая за ходом борьбы.
Дасадас получил хороший урок; от третьего прыжка он воздержался. Нагнув голову, он бросился вперед и с ужасающей силой врезался головой в живот Гоиббана. Но тот даже не пошатнулся.
Удивленный Дасадас выпрямился и уставился на своего противника.
В следующий же миг Гоиббан схватил его левой рукой.
Дальнейшее произошло в течение нескольких мгновений. Невзирая на отчаянное сопротивление Дасадаса, Гоиббан раскрутил его тело в воздухе, затем упер левую руку в подбородок скифа и жал до тех пор, пока у того глаза едва не вывалились из глазниц. Хотя скиф и пробовал дотянуться рукой до подбородка кузнеца, его руки соскальзывали с потного тела Гоиббана.
– Гоиббан! Гоиббан! – вопила толпа; кузнец изогнул спину и отшвырнул прочь скифа. Дасадас с такой силой ударился о землю, что сразу не смог подняться, когда же он пришел в себя и попытался встать, на шею ему опустилась тяжелая нога противника.
Не сводя глаз с Тараниса, Гоиббан поднял сжатую в кулак правую руку, которой он так и не пользовался, и толпа разразилась дикими криками восторга.
– Хорошая борьба, – нехотя признал Кажак.
Отведя взгляд от площадки для борьбы, он заметил, что Эпона смотрит на него. И улыбнулся ей, не той быстрой привычной усмешкой, которая помогала ему завоевывать симпатии незнакомцев, но медленной улыбкой, предназначающейся только для братьев, для близких по духу.
У обоих было такое впечатление, будто они пожали друг другу руки.
Кажак в замешательстве отошел прочь и затерялся в толпе, пытаясь побороть какое-то странное внутреннее смятение, какого он никогда прежде не испытывал. Постоянно изменчивая, трудная жизнь, большую часть которой настоящий мужчина проводит в седле, под солнцем и звездами, обдуваемый чистым ветром; стремительная скачка; взмах и удар мечом; сладостное для слуха посвистывание стрелы, настигающей врага или добычу, – все это было для него хорошо понятно. Но вновь и вновь встречаться глазами с женщиной и испытывать такое чувство, как будто она сумела проникнуть в самую глубь его сердца!..
Такого с ним не случалось еще никогда в жизни, и он испытывал поистине нестерпимые муки.
Когда небо потемнело, снова был разведен пиршественный огонь, и кельты собрались, чтобы продолжать чествовать своих гостей. Кажак хотел бы уже спать, прильнув головой к гриве коня, но сперва надо было довершить начатое. Он сделал знак Баслу, и смуглый скиф ушел и после недолгого отсутствия вернулся с чем-то, завернутым в одеяло.
Кажак жестом велел ему положить принесенное к ногам Тараниса.
– Скиф держит слово, – сказал он. – Кажак обещал, что вы будете пировать олениной, – и вот вам олень.
Нагнувшись, Басл снял одеяло с ветвисторогого оленя, пронзенного стрелой в самое сердце. Олень был не очень большой, уж, конечно, не такой великан, которого Кажак собирался убить еще утром. Тем не менее свое слово он сдержал, и кельты оценили его преданность чести.
Если бы Кернуннос был в этот момент с ними, он ясно осознал бы, какой непоправимый удар нанесен по укладу кельтской жизни, по их обычаям и традициям.
– Таранис и Кажак в расчете? – спросил скиф.
Таранис сидел на своем почетном месте, облаченный в свой лучший клетчатый плед, с массивным золотым браслетом на руке, привезенным скифами. Он широко улыбнулся Кажаку, вновь играя роль радушного хозяина.
– Да, в расчете, – подтвердил он. – Эпона, принеси пиршественную чашу.
Ночь была долгая. Еще до ее окончания, после того как пиршественная чаша много раз обошла круг пирующих, Кажак отправился к своему коню. Его глаза туманились от усталости. Он даже не заметил, что Эпона ускользнула еще раньше его; свернувшись клубочком, укрывшись медвежьей шкурой, она спала, обратив лицо к лошадям. Скифы не смогли бы уехать без ее ведома.
На следующее утро скифы собирались покинуть деревню. Эпона наблюдала за ними с первых проблесков зари, надеясь переговорить с Кажаком, но прибыла группа старейшин во главе с Таранисом, чтобы, рассыпаясь в учтивостях, проститься и помочь погрузить железные изделия на лошадей скифов.
Кажак торопился с отъездом. Он не собирался терять драгоценное дневное время, выслушивая этих словоохотливых кельтов, которые все продолжали бубнить и бубнить. Надеясь, что они поймут его намек, он засунул за пояс свой новый меч – тот самый, что должен был принадлежать Таранису, – и расстреножил коня.
В соответствии с традицией пожелать путникам доброго пути явились и друиды, однако Кернунноса среди них не было. Уиска смущенно поднесла Кажаку и его людям полные бурдюки с водой, а Поэль сообщил им, что споет ребятишкам о них песню.