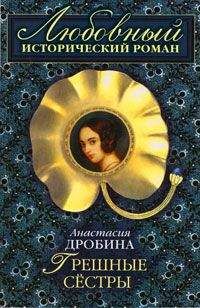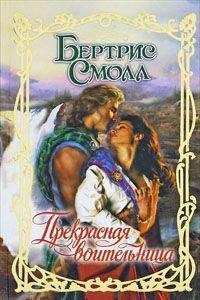– Вот шагни только ко мне, – спокойно, холодно сказала Софья, сжимая в руке скользкое горлышко бутылки. – По голове вот этой самой четвертью ударю. А потом – хоть по Владимирке.
– Оченно надо… – пробормотала Устинья, юркая за стойку. – По Владимирке из-за пустяков таких… Да носите вы свою рванину сами, барышня, мне и даром не требуется… А только за угощение платить надобно! Мне лишнего-то ни к чему, только и в убыток торговать не станем…
– А ты не торгуй, – глядя в сторону и все еще сжимая бутылку, посоветовала Софья. – Сколько раз мы тебя просили – не продавай ты ему вина! А ты, проклятая, все суешь да суешь.
– Так тем живу, барышня, тем живу! – снова осмелела Устинья. – А вы постыдились бы честную копейку у одинокой женщины забирать! Креста на вас нет, вот что я скажу! Вот урядник приедет, ужо я ему пожалуюсь! Думаете, коль господа, так и управы на вас не сыщется? Да я…
– Да молчала б ты, дура, – вдруг раздался из-за спины Софьи густой, веселый и пьяный бас, и та, вздрогнув, обернулась. Молодой купец, сцепив руки на пояснице, стоял позади нее и смотрел в упор пьяными, черными, блестящими глазами.
– Возьми да умолкни, – велел он кабатчице, кидая на стойку серебряный рубль. – От визгу твоего в голове содроганье одно.
– Больше дадено… – заикнулась та, и купец, не глядя, кинул еще несколько монет.
– Напрасно вы это, – хмуро сказала Софья, видя, как серебряные рубли, вертясь, раскатываются по стойке. – Эта шаль не дороже полтинника стоит.
– Разве? – удивился тот. – А что ж ты тогда из-за нее всколыхалась так, ненаглядная?
Софья поставила на стол бутылку. Повернулась к купцу и, глядя в его черные, без блеска, кажущиеся из-за этого сумрачными, глаза, отчеканила:
– Знай свое место, мужик! Я тебе не ненаглядная! Я – здешняя помещица, Софья Николаевна Грешнева!
– Вона куда! – ничуть не испугавшись, протянул купец. – Ну, а мы люди торговые. Федор Пантелеев Мартемьянов. Не желаете ли водочки за знакомство?
– Пошел вон, – сказала Софья. Мартемьянов, разумеется, и с места не тронулся. В кабаке уже давно никто не пил, не ел и не бранился с соседями: все, предвкушая бесплатное развлечение, таращились на барышню и заезжего купца. Устинья даже позвала из задних комнат сожителя, кривого старика с обширной плешью, годившегося ей в отцы, который сонными глазами уставился на происходящее через стойку.
– Ох, какие глаза у вас, барышня, погибельные! – весело заметил Мартемьянов. – Как вода в пруду под солнцем, право слово! Да не топорщитесь вы так, не обижу небось. Но только и не выпущу.
– Пусти, – обмирая, понимая, что он не шутит, сказала Софья.
– Ан нет! – усмехнулся купец. Он был такой огромный, что и думать было нечего оттолкнуть его и умчаться. В полном отчаянии Софья взглянула на брата, но Сергей сладко спал, прислонившись к стене. Его поддерживал плечом один из людей Мартемьянова, темноволосый широкоплечий парень в новой косоворотке. В его руках была гитара с навязанным на гриф алым бантом, и он слегка пощипывал струны, извлекая из них сбивчивую «камаринскую». Поймав полный смятения взгляд Софьи, он улыбнулся и слегка поклонился. Несмотря на охватившую ее панику, Софья отметила благородную сдержанность этого поклона: словно отдавший его парень был не приказчиком, а по меньшей мере юнкером. И тут ее осенило.
– А ну, гитару мне сюда! – звонко, на весь кабак, воскликнула она. – Петь вам буду! Что уставились? Гитару, живо! Не каждый день вас барышни веселят!
Мужики загудели, загоготали, повскакивали с мест. Темноволосый парень поднялся с места, умудрившись аккуратно прислонить бесчувственного Сергея к стене, и галантно передал Софье гитару. Та приняла ее, машинально пробежалась пальцами по струнам, проверяя настройку. Мысль у нее была одна: любой ценой отвлечь Мартемьянова, чтобы он отошел от двери, а там – бегом в сени, и на двор, и прочь отсюда… Нипочем не догонят!
Купец, впрочем, оказался вовсе не дураком и от двери не отошел. Мельком Софья подумала, что в крайнем случае ударит его гитарой по голове. Инструмент был кабацкий, плохой, две струны нещадно врали, но возиться с настройкой не было времени. Софья взяла было аккорд веселой песни «По улице мостовой», но от растерянности и испуга запела совсем другое и спохватилась, когда уже поздно было останавливаться:
Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг,
Знать, забило сердечко тревогу, —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг…
Пела Софья хорошо и знала об этом. Еще в детстве, когда был жив отец и старшая сестра брала уроки фортепьяно и сольфеджио у выписанной из-за границы итальянки, мадам Джеллини, крошечную Соню ничем нельзя было на время этих уроков выманить из комнаты. Она сидела тише мыши в огромном, почти целиком скрывающем ее кресле у окна, слушала переборы фортепьяно, вокализы сестры и мадам Джеллини, а когда урок заканчивался, безошибочно воспроизводила услышанные упражнения. «Брависсимо! – восхищалась мадам Джеллини. – Ваш отец должен будет отправить вас, мадемуазель Софи, в Италию, учиться бельканто!» Сестра Анна восхищенно аплодировала, сама Софья гордо улыбалась и знала, что непременно, непременно поедет в Италию. Ах, детство, золотое, безоблачное, беззаботное… Как все было просто и весело тогда, как не думалось о завтрашнем дне! И даже в страшных снах не могло привидеться то, что случилось с ними. «Мама… – подумалось горестно и не в первый раз. – Зачем же ты так? С отцом, с нами?»
Гитара смолкла, Софья опустила ее на колени. В кабаке стояла мертвая тишина. Софья удивленно смотрела на неподвижные, заросшие бородами лица мужиков, на зажмуренную физиономию Устиньи с одинокой слезой на пухлой щеке, на ошалелые глаза мартемьяновских молодцов. Тот темноволосый парень, что подал ей гитару, даже встал со своего места и стоял, весь подавшись вперед, в упор глядя светло-серыми глазами. «Глаза у него какие чудные… – почему-то подумала Софья. – Сам темный, а глаза – светлые, странно…» И удивления в этих глазах не было, лишь пристальное внимание и теплота, от которой по спине у Софьи побежали мурашки. Забыв о всяких приличиях и даже о Мартемьянове, она молча, без улыбки смотрела на темноволосого, светлоглазого приказчика. А тот смотрел на нее.
Из этого оцепенения Софью вывело копошение в углу и прозвучавший голос – знакомый до противности:
– Сонька, ты, что ли, воешь? Не п-позволю… Для кого стараешься, мерзавка?
– Замолчи, дурак, – устало сказала Софья, взглянув в мутные, бессмысленные глаза брата, только сейчас поднявшего голову со стола. Никто не рассмеялся, да и сама она не почувствовала никакого стыда. Только бесконечную усталость и отвращение.