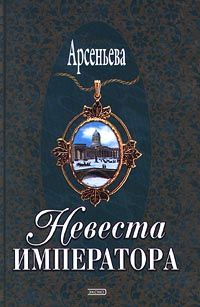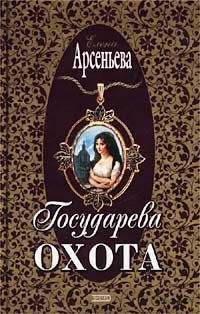– Ну так пойдешь за царя?! – и как-то даже забыла, что надо сказать, замешкалась с ответом, за что и получила новый удар поперек спины, от которого руки и ноги ее вмиг онемели – она их не ощущала больше, вместо них сделались как бы комья льда. И горло оледенело, не могло выпустить вспухший в груди крик. Маша давилась им, билась на спине Бахтияра, силясь вздохнуть, а он все поерзывал под нею, терся об ее живот…
У Маши потемнело в глазах.
Она достаточно знала: Варвара Михайловна не угомонится, пока не получит своего. И никто, никто не заступится, кричи не кричи: в теткином доме все по струночке ходят, да и привычны люди, что их хозяйка все время кого-то порет. Прислуга смотрела на розги и пощечины как на меру, необходимую для их исправления и удержания в границах должного порядка. «Они наши отцы, мы их дети, – говорили высеченные, почесываясь. – Кому же и поучить нас, как не их милости!» И уж, конечно, всякий в этом доме полагает тетку в полной власти и воле над строптивой племянницей, тем паче когда речь идет о столь важном деле, как замужество. Да где это видано – у девок согласия спрашивать?! А она спрашивает:
– Ну так что? В последний раз говорю!
Маша только губами шевельнула – говорить не могла, и тетка, истолковав это слабое движение как знак нового отказа, с такой яростью согнула хлыст, что он сломался.
– Ах, не хочешь? Ну так вот гляди: переломлю тебе спину, изувечу до смерти – никому нужна не будешь!
– Батюшка с тобой счеты сведет! – пискнула Маша вдруг прорвавшимся мышиным, писклявым голосишком, но Варвара Михайловна так люто блеснула глазами, что у девушки вновь онемела гортань:
– Батюшка твой? Жди, дождешься! Да ему шкуру свою да нажитое надо спасать, и единственное для сего сейчас средство – ты, дура набитая… битая! Битая! – Варвара Михайловна метнулась к двери, крича: – Розги мне! Розги подайте! Вымоченные, слышите, олухи?!
Слезы ручьем хлынули из Машиных глаз, и Бахтияр резко повернулся, когда горячие капли потекли по его шее. Теперь Маша близко видела его чеканный профиль, и хотя Бахтияр говорил очень быстро и почти не разжимая губ, Маша с особенной отчетливостью слышала каждое его слово – жаркое, исполненное сочувствия:
– Согласись, княжна, милая! Клянусь, она бесом одержима – забьет ведь до смерти, не то изувечит красу твою несказанную! Скажи «да», а после, как сделаешься самовластной царицею, ты уж с нею за все сквитаешься! Согласись! Что же, что он мальчишка – он царь! Это все богатство, вся власть! А как счастливой с ним быть, я тебя обучу. Клянусь! Я тайну знаю… тебе открою…
Он внезапно умолк, и Маша поняла, что сейчас начнется новая пытка: тетушка стояла рядом, поигрывая свежей лозиною, помахивая ею, и та вспарывала воздух с угрожающе-насмешливым свистом.
Маша дернулась, рванулась с такой силой, что едва не опрокинулась навзничь вместе с Бахтияром.
– Да! – прохрипела она. – Да! Я согласна!
Мгновенную радость ей доставило выражение злобного недоумения на теткином лице.
– Пойдешь за царя? – сочла нужным переспросить Варвара Михайловна. – Вправду? Без ослушания и мотчания [7]?
Маша сверкнула на нее косым взглядом, но тетке все было мало:
– Клянись господом, что не обманешь, не отступишься!
– Как я могу? – проскрежетала Маша сквозь зубы. – Руки-то…
– Ах, да! – расхохоталась тетушка с нескрываемой издевкою, как бы только сейчас сообразив, что у племянницы руки схвачены – даже не перекреститься. – Пусти ее, Бахтияр!
Тот медленно распрямился, даже слегка изогнувшись назад, чтобы Маше легче было стать на пол, и медленно-медленно выпустил ее руки. Они мимолетно скользнули по его лицу… Маша тихо вскрикнула от боли в вывернутых суставах. Крестное знамение вышло широким, неровным, неуклюжим, но тетка удовлетворилась им – и лицо ее вмиг разгладилось, сделалось по-всегдашнему умильным.
– Храни тебя бог, Машенька! – выдохнула она счастливым шепотом. – Это ведь все для тебя! Придет день – сама меня отблагодаришь!
Маша опустила ресницы, чтобы тетка не увидела огня ненависти, вспыхнувшего в ее взоре. «Верно сказал Бахтияр! Ради того, чтобы ей все припомнить, стоит сказать «да» этому мальчишке! Ох, попляшет у меня тетенька… Вот так же, как я. На Бахтияровой спине!»
Маша взглянула на молодого черкеса: волосы и бешмет черные, как ночь, рубаха алая, как кровь, точеное лицо белое, как снег, а глаза… глаза горят, будто уголья!
Маша резко повернулась, кинулась к двери. Отчего-то жутко вдруг сделалось. И спина болит, как спину-то ломит, рвет железными крючьями!
Она бежала по коридору, потом по лестнице. Вскочила в свою коляску, ожидавшую у крыльца, молча (боялась, что зарычит от злости, если откроет рот) махнула кучеру, кое-как присела бочком. Маша словно бы погрузилась в черные тучи боли и мстительности, и только одно легкое, светлое дуновение обвеивало, тешило ее смятенную, как небо в грозу, душу: воспоминание о том, как Бахтияр, выпуская ее руки, коснулся их губами.
– Завещанье-то сие пресловутое видел кто, нет? – пробормотал генерал-фельдмаршал Сапега самым краешком растянутых в судорожной улыбке губ. – Я от постели умиравшей государыни не отходил, и никакого завещания не видел, и ничего от нее не слышал!
Слова его едва можно было различить в грохоте музыки и непрестанном шуме голосов, однако стоявшие близ него канцлер Головкин, наставник императора Остерман да князья Дмитрий Михайлович Головкин и Алексей Григорьич Долгоруков в совершенстве усвоили искусство слышать то, что не предназначалось для чужих ушей, и беседовать таким образом, что стороннему наблюдателю и в голову не взошло бы, будто здесь царит не молчание, а идет оживленный разговор людей, чье благополучие и даже сама жизнь оказались под угрозою.
Чертов Алексашка! Вот уж любимец фортуны!
Хотя после смерти императрицы все сложилось вроде бы так, как того желала старая знать: на престол взошел сын царевича Алексея Петровича, – но все же и не совсем так, ибо обязан он был этим беспородному Алексашке, который, первое дело, убедил Екатерину назначить своим наследником вовсе чужого ей Петра, а не кого-то из дочерей родимых, ну а во-вторых, уже до такой степени прибрал к рукам юного императора, что даже перевез его из дворца в свой дом под предлогом, что неприятно, дескать, оставаться во дворце, где еще недавно скончалась императрица. Мальчишка уже и называл Меншикова батюшкой! Долгоруков едва не плюнул с досады на мраморные полы бальной залы, да сдержался: пока что хозяин этих зал и всего этого дома на Васильевском острове (им же самим переименованным в Преображенский), более напоминающего кирху, чем жилье русского барина, в силе, да в какой! Лучше поостеречься да погодить… смолчать…