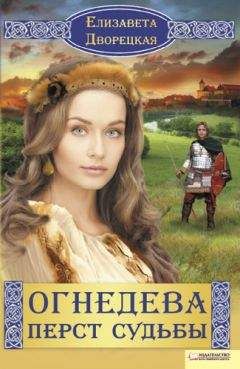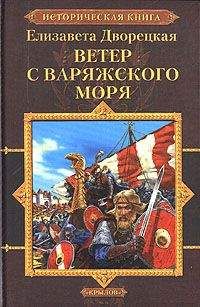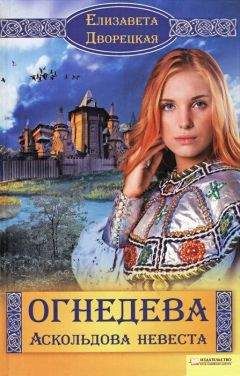— Ой, бабушка Белогориха! — Велемила отчаянно всплеснула руками, бесстрашно подалась к неприветливой старухе ближе и оживленно затараторила, округлив глаза словно в изумлении. — Ну как тут будешь дома сидеть, когда такое творится? Сижу я, смотрю, брат мой дурак, затеял в решете пиво варить! Я ему говорю: возьми, дурень, котел, больше пива наваришь! А другой брат, дурак, в исподку пиво сливает! Я ему говорю: возьми, дурень, бочку, больше пива насливаешь! Бегу к вуйке Велераде на тех двух дураков пожаловаться, смотрю, а муж ее Вологор толкачом сено косит! Я ему говорю: возьми, дурень, косу, больше сена накосишь! Гляжу, сын его дурак, на свинье то сено возит! Я ему говорю: впряги, дурень, лошадь — больше сена навозишь!
— Вот пришла стрекотать! — Бабка стала от нее отмахиваться, как от большущего надоедливого слепня. — Чего тебе тут! Поди, поди!
Но Велемила, будто не слыша, продолжала наступать, прямо в лицо ей вываливая «новости»:
— А другой сын его, дурень, шилом вздумал сено подавать! Я ему говорю: возьми, дурень, вилы, больше сена подашь! Гляжу, стрый мой, дурень, вздумал «кобылкой»[7] пашню пахать! Я ему говорю: возьми, дурень, соху, больше пашни напашешь!
— Поди прочь! Поди! Ух, уморила, умаяла! Не девка, а Встрешник!
Отмахиваясь, бабка пятилась от наступающей Велемилы, пока не уперлась задом в дверь клети и почти провалилась туда, ища спасения от неумолкающей гостьи. Едва она исчезла, Велемила метнулась назад, кивнула спутницам, схватила Стейна за руку и потянула к двери избы.
— Да будет благо тому, кто в доме сем! — провозгласила она, заходя.
Стейн, озабоченный тем, чтобы не споткнуться на ступеньках, не сразу разглядел в темноте, где кто и вообще сколько тут народу. А народу хватало: плотный лысый старик, большеголовый, бородатый, сидел у стола, вокруг на лавках размещались еще человек семь — молодые мужчины, отроки, мальчишки, две маленькие девочки. Хозяйка, помоложе той старухи, возилась у печи.
— Здравствуй, Домагостевна! — Старик кивнул. — С чем пожаловала? Кого привела? Вроде не знаем мы такого!
— Добра молодца я к вам привела, из стран чужедальних, из-за широких полей, дремучих лесов! Как на сию пору на времечко не буйны ветры завеяли — знатны гости понаехали! Уж мы-то вежливы были — встречали гостей дорогих посреди двора широкого, за белы руки брали, за перстни золотые, вели в нову палату, сажали за столы дубовые, за скатерти шиты-браные! Угостивши, стали расспрашивать: ой вы гости наши богатые, где бывали, что видали, как у вас за морем житье-бытье? Вы скажите нам всю правду-истину, скажите нам все вести заморские: кто у вас за морем больший? Кто у вас за морем меньший? Отвечают нам гости заморские: да у нас за морем все птицы большие, да у нас за морем все птицы меньшие! Орел на море — князь, перепел на море — воевода, петух на море — старейшина. Сова на море — ворожея, ворон на море — кощунник, лебедушка на море — княгиня, с ножки на ножку ступает, высоки брови поднимает!
Велемила говорила без остановки, не отпуская внимания слушателей: дети свесили головки с полатей, мужчины усмехались, даже баба у печи заслушалась, держа ложку, с которой капало на земляной пол. Стейн не понимал половины из ее скороговорки, но видел, что и прочие, не очень-то улавливая смысл, внимают плавному и быстрому, как река, течению рассказа. Девушка искусно играла голосом, поводила руками, изображала всем телом то ворону, то лебедушку, то орла-князя; руки, плечи, голова, даже коса помогали ей, становясь то крыльями, то воеводским мечом. Действо, которое Велемила одна разыгрывала, совершенно заворожило десяток слушателей, не исключая и Стейна.
— Сокол у нас за морем боец удалой, на всякую птицу налетает, грудью ее побивает; сорока у нас за морем — щеголиха, без пряника не садится, без милого не ложится. Одна малая птичка-синичка, — плечи Велемилы поникли, руки опустились, как мокрые крылья, лицо стало грустным, черные широкие брови сложились домиком, она даже стала как будто меньше ростом, — сена косить не умеет, стадо ей водить не по силе, нету нигде ей, бедной, места!
Она замолчала, пригорюнившись, так что у слушателей заломило в бровях — хоть плачь от жалости к бедной синичке! Но потом, опомнившись, все закричали, завопили, дети запрыгали на месте, а один даже на лавке, мужики засмеялись, женщины всплеснули руками от удовольствия.
— Вот, любошинское семя, Радогневино племя! — Лысый старик хлопнул себя по коленям. — Все в роду обояльники, не хочешь, а заслушаешься!
— Не лежать черну бобру у крутых берегов, черной куне — у быстрой реки, не сидеть мне, девице, на чужом пиру — на свой собираться пора! — Велемила поклонилась. — Уж у меня, у девушки, все приготовлено: девять печей хлеба испечено, десятая печь — румяных пирожков, девять бочек пива наварено, десятая — меда сладкого.
И только оказавшись снаружи, на свежем воздухе, Стейн заметил, что две сопровождавшие их девушки уже стоят за углом, давясь от смеха, и обе сжимают под мышками по курице. Выгнали в сени и прихватили, пока обитатели избы любовались Велемилой — никто и не заметил. И даже если хозяева помнили, какой сегодня день, и знали, зачем к ним пришли три девушки, те честно выкупили свое право унести две курицы в жертву Сварогу, кузнецу семейного счастья.
— Ты — колдунья, да? — Стейн тряс головой, пытаясь прийти в себя. — Ты всех заворожила? Это было заклинание?
— А как же? — Велемила хохотала над его растерянностью, очень довольная плодами своих трудов. — Другие девки в избах по песне споют, курицу заберут, а хозяева будто и не видят! К Творинегу не любят ходить, он и сам строгий, и старуха у него больно вредная. Да против меня и ей не устоять, у меня в роду все баяльники, кощунники, обавники, краснобайники да вещуны! А Творинег хоть и понимает, а молчит! Что он против меня сделает? У самого две дочери еще недоросточки, надо будет их замуж выдавать, а куда тут без меня?
— Почему — без тебя нельзя замуж?
— Потому что которая девка в «стаю» не принята, та не невеста, ее и сватать не станут! А в «стаю»-то кто принимает?
Она наклонила голову, многозначительно и с озорством глядя на Стейна — ответ уже был ему ясен. Во всем ее облике было столько лукавства и притом самоуверенной гордости, что он не мог не засмеяться. От воздуха, движения, воодушевления ее глаза блестели, на щеках выступил румянец, губы улыбались, и Стейн поймал себя на желании немедленно ее поцеловать, не думая даже, можно это сделать или нельзя. У них тут все так сложно…
— Каша! — вдруг сказал он, чтобы что-нибудь сказать, и окинул взглядом засыпанную первым снегом землю. — Это так называется?