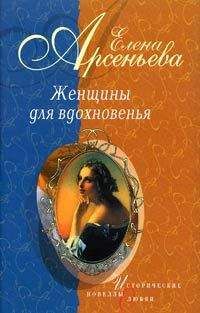— Подай-ка нам, братец, буженины, семги вашей боярской, щей с ребрышками и расстегаями, свинины жареной с картофелем и грибами, а после всего — чаю, — быстро распорядился Юргенсон, видимо хорошо знакомый с местной кухней. — Ну и графин коньяку, само собой.
— Счас-с-с, — прошипел половой и исчез.
— У меня есть новости из Петербурга, — начал Юргенсон. — По поводу твоего скрипичного концерта…
Бесполезно было бы спрашивать о том, кто именно сообщил Петру Ивановичу новости относительно скрипичного концерта — Юргенсон никогда не выдавал своих источников.
— Как ты знаешь, Иосиф намеревался играть его в Петербурге, — Юргенсон говорил спокойно, негромко. — Так вот, против этого выступил Давыдов…
— Карл Юльевич? — изумился Чайковский.
— Нет, его однофамилец — герой войны двенадцатого года и по совместительству поэт, — пошутил Петр Иванович. — Конечно же, он, наш дорогой Карл Юльевич, назвал твой скрипичный концерт жалким и добавил, что это не произведение, а насмешка над публикой.
— Черт бы его побрал! — вырвалось у Чайковского. — Что он себе позволяет?
Такой подлости от человека, которого он уважал, чьим талантом восхищался, называя его «царем виолончелистов нашего века», Петр Ильич не ожидал.
— Если ему пожаловано звание солиста двора, то это еще не значит, что он имеет право судить остальных музыкантов, да еще судить так грубо! — Петр Ильич вышел из себя. — Лучше бы он занимался математикой…
Карл Юльевич Давыдов по окончании Московского университета получил степень кандидата математических наук.
— …или же пошел по стопам отца…
Отец Карла Юльевича был врачом.
— …нежели брался судить о том, о чем ему судить не положено!
Петр Ильич стукнул кулаком по столу. Посуда зазвенела, половой тут же подскочил.
— Он не один такой, — прямодушный Юргенсон умел успокоить. — С ним согласился Ауэр.
— Да что же это такое? — растерянно вытаращился на него Чайковский. — Два человека, которых я называл друзьями, которые были мне приятны, которые хвалили мои сочинения…
— Ауэру ты концерт посвятил, — напомнил Юргенсон.
— Вот-вот…
Половой принес коньяк и закуски. Когда он, расставив все на столе и наполнив рюмки, удалился, Петр Ильич продолжил:
— Причем я никогда не делал им ничего плохого, чтобы вызвать к своей персоне неприязнь, а то и ненависть.
— Да знаю я, — подтвердил Юргенсон, поднимая рюмку на уровень груди. — Предлагаю тост за тебя! Да сопутствует тебе успех!
— Спасибо.
Они чокнулись и залпом выпили коньяк, оказавшийся весьма недурственным.
— Странно, что Иосиф ничего не написал мне, — сказал Чайковский, закусывая бужениной.
Котек иногда писал ему, но их переписку нельзя было назвать регулярной.
— Должно быть, не хотел огорчать, — предположил Юргенсон.
— Рано или поздно я все равно бы все узнал.
— Это так.
— Ты сказал все или имеешь добавить что-либо? — уточнил Чайковский.
— Только то, что Антон Григорьевич не стал ничего возражать им…
— А даже высказал в мой адрес парочку своих неуклюжих острот! — перебил его Чайковский, разливая новую порцию коньяка по рюмкам, не дожидаясь полового. — Предлагаю ответный тост — за тебя, Петр, моего любимого, единственного и бескорыстнейшего издателя!
На этот раз закусили семгой.
— И чего в ней боярского? — спросил Чайковский. — Семга, как семга, ничего особенного.
— Доводилось есть и получше, — подтвердил Юргенсон. — Очевидно, звучное название блюда призвано добавить солидности заведению.
— Как я люблю твою обстоятельность и деликатность! — восхитился Чайковский. — Другой сказал бы просто — «пыль в глаза пускают», а ты вон как дипломатично выразился!
— Станешь тут дипломатом при такой жизни, — усмехнулся Юргенсон. — Ничего удивительного. Кстати, австрийские и немецкие газеты неожиданно принялись восхвалять Бродского, решившегося дебютировать в Вене с твоим скрипичным концертом. Ему ставят в заслугу не столько трудность исполнения и саму сложность произведения, как его русское происхождение.
«Это она», — подумал Чайковский, почувствовав во внезапном к нему расположении зарубежных газет руку Надежды Филаретовны, но вслух ничего не сказал.
— В Вене не любят смелость, там больше расчет в чести, — продолжил Петр Иванович. — Но я скажу тебе, что Бродский просто молодец.
— Мой концерт и Дамрош два года назад играл в Нью-Йорке! — напомнил Чайковский, весьма ревниво относившийся к своей славе. — А эти завистники…
Леопольд Дамрош в далекой Америке считался «первой скрипкой континента».
Подали щи прямо в обжигающе горячих глиняных горшках.
— Ну, прямо как в Берендеевом царстве! — улыбнулся Чайковский.
— Мне непонятны мотивы их поступков, — вернулся к теме разговора Юргенсон. — Не нравится вам концерт — не играйте его, никто же не неволит. Но зачем мешать другим? Если предположить, что твой концерт плох или, к примеру, Котек — никудышный скрипач, то вся это затея провалится под шиканье публики во время первого выступления, не так ли?
— Их гложет зависть, — сказал Чайковский, погружая в щи ложку. — Одному сам граф Виельгорский виолончель работы Страдивариуса преподнес, другому государь изволил пару приветливых слов сказать, третий вообще упивается своей славой и более ничего знать не желает. Я сегодня же напишу Давыдову…
— Что не так у вас-с-с? — подскочил к столу половой, озабоченный тем, что клиенты не спешат есть щи. — Щи не в порядке?
— Не беспокойся, любезный, — ответил Чайковский. — В порядке твои щи, просто горячи очень. Вот мы и ждем, пока они остынут.
С людьми низкого положения он неизменно был приветлив и доброжелателен.
Половой удовлетворился объяснением и скрылся из виду.
— Я потребую у него объяснений. Нельзя требовать, чтоб критик был всегда справедлив и безусловно непогрешим в своих оценках. Но нужно, чтобы он был правдив и честен. Он может ошибаться, но всегда искренно, — продолжил Чайковский. — Могу ли я сослаться на тебя в письме к Давыдову?
— Лучше не надо, — честно ответил Петр Иванович. — Мое дело требует от меня сохранять хорошие отношения со всеми, имеющими отношение к музыке.
— Вот именно — имеющими отношение! Я так ему и напишу — «Уместно ли людям, всего лишь имеющим отношение к музыке, судить о ней?». Благодарю за подсказку.
— Давыдов и Ауэр имеют звания «солистов двора Его Императорского Величества», — напомнил Юргенсон. — Твои слова относительно «всего лишь имеющих отношение к музыке» могут быть превратно истолкованы, и даже сочтены оскорбительными для…