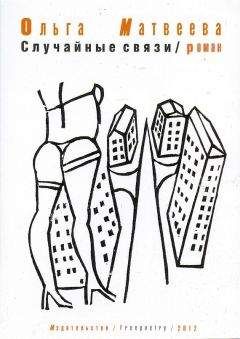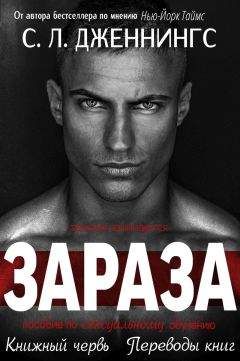– Как же? Я разве не говорил, что она мне звонила сегодня утром, – ответил Филипп с нескрываемой радостью. – Она приехала вчера.
– Очень рада за вас, Филипп. Теперь у вас будет спутница на то время, пока я не смогу выезжать с вами.
– Да что вы, Изабелла, я ни на минуту не оставлю вас!
– А я настаиваю, чтобы вы бывали на людях; к тому же я не буду одна, скоро приедет мама.
– Да, верно, – сказал Филипп в восторге, – она, вероятно, уже недалеко. Откуда была последняя телеграмма?
– Радиотелеграмма с парохода, но, как мне ответили в Пароходной компании, завтра она должна прибыть в Суэц.
– Я радуюсь за вас, – сказал Филипп, – очень мило с ее стороны, что она решилась совершить такое долгое путешествие, чтобы присутствовать при рождении внука.
– Моя семья похожа на вашу, Филипп. Рождение и смерть для нас всегда праздник. Помню, что у моего отца самые веселые воспоминания были связаны с похоронами его двоюродных братьев, которые жили в провинции.
– А мой дед Марсена, когда был уже так стар, что врач запретил ему ходить на все похороны, горько жаловался на это. Он говорил: «Меня не пускают на похороны дорогого Пьера, а ведь у меня теперь так мало развлечений».
– Сегодня вы, кажется, в отличном настроении, Филипп.
– Разве? Нет, не сказал бы… Но погода прекрасная, вы чувствуете себя хорошо, девятимесячному кошмару скоро конец. Я доволен. Это вполне естественно.
Видеть его столь жизнерадостным и знать причину его возрождения было для меня унизительно. В тот вечер он обедал с особым аппетитом; такой аппетит я некогда наблюдала у него в Санкт-Морице, а в последнее время он, к великому моему беспокойству, совершенно утратил его. После обеда он стал нервничать. Его одолевала зевота. Я предложила:
– Не хотите немного почитать? Мне очень нравится вещь Стендаля, которую мы начали вчера…
– Да, конечно, – ответил Филипп. – «Ламьель»… Конечно, это поразительно хорошо… Почитаем, если хотите.
На его лице мелькнула скучная гримаса.
– Послушайте, Филипп. Знаете, что вам следовало бы сделать? Съездить поздороваться с Соланж; вы не виделись пять месяцев. Это будет очень мило с вашей стороны.
– Вы думаете? Но мне не хочется вас покидать. Кроме того, я не знаю, дома ли она, принимает ли. В первый день у нее, вероятно, родня, родня Жака.
– Позвоните, узнайте.
Я надеялась, что он станет отказываться упорнее, а он сразу же поддался соблазну.
– Ну что ж, попробую, – ответил он и улыбнулся. Пять минут спустя он вернулся сияющий и сказал:
– Раз вы ничего не имеете против, я загляну к Соланж. На четверть часика.
– Сидите там сколько хотите. Я очень рада, вам это будет на пользу. Но зайдите ко мне, когда вернетесь, даже если очень поздно.
– Это будет не поздно; сейчас девять; без четверти десять я буду дома.
Он зашел ко мне в полночь. В ожидании я немного почитала и долго плакала.
Мама приехала из Китая за несколько дней до родов. Вновь увидевшись с ней, я, к удивлению, почувствовала, что она мне одновременно и ближе и дальше, чем я предполагала. Она раскритиковала наш образ жизни, наших слуг, мебель, друзей, и ее слова вызывали во мне отзвук каких-то незримых, сокровенных струн, слабо вторивших ей. Но эта старая семейная основа уже покрылась у меня толстым «наслоением Филиппа», и то, что ее удивляло и возмущало, казалось мне вполне естественным. Она сразу же заметила, что в последние месяцы моей беременности Филипп не был ко мне так внимателен, как мог бы быть. Меня огорчало, когда она говорила: «Вечером я посижу с тобою, ибо думаю, что у Филиппа не хватит мужества остаться дома». И я тут же упрекала себя в том, что огорчаюсь скорее из гордости, чем из любви. Я жалела, что она не приехала до возвращения Соланж, в те дни, когда Филипп, придя из конторы, все время проводил около меня. Я хотела бы доказать ей, что и меня можно любить. Иной раз, стоя у моей постели, она начинала меня рассматривать, и ее критический взгляд будил во мне былое девичье отчаяние. С сосредоточенным, почти враждебным видом она проводила рукой по моим волосам, разделенным пробором, и говорила: «Седеешь!» И это была правда.
Когда Филипп возвращался домой за полночь и на улице уже бывало мало прохожих, я прислушивалась к их шагам, чтобы различить шаги Филиппа. Как сейчас еще слышу эти обманчивые звуки – они растут, внушают надежду, что человек вот-вот остановится, потом слышатся вновь, начинают удаляться и замирают. Если пешеход действительно собирается остановиться у такого-то подъезда, он еще за несколько метров убавляет шаг; по этому признаку я наконец узнавала Филиппа. Крылатый звонок проносился по дому; вдали хлопала дверь; это он. Я намеревалась быть веселой, снисходительной, но почти каждый раз встречала его жалобами. Мне самой становилось тяжело от однообразия и резкости фраз, которые у меня вырывались.
– Ну я больше не могу, Изабелла, уверяю вас, – говорил он устало. – Неужели вы не замечаете сами, до чего вы непоследовательны? Вы сами уговариваете меня куда-нибудь поехать; я уступаю вам, а потом вы засыпаете меня упреками. Чего вы хотите? Чтобы я не выходил из дому? Так и скажите… Я буду сидеть дома. Да, обещаю вам – буду сидеть дома… Что угодно, лишь бы не эти вечные ссоры… Только, прошу вас, не будьте в десять часов вечера великодушной, а в полночь – мещанкой…
– Да, Филипп. Вы правы. Я отвратительна. Обещаю, что этого больше не будет.
Но на другой день какой-то притаившийся во мне бес вновь подсказывал мне неуместные упреки. Особенно негодовала я на Соланж. Я считала, что в такую пору моей жизни у нее должно бы хватить такта не отвлекать от меня мужа.
Однажды она приехала навестить меня. Разговор не клеился. На ней было прекрасное соболье манто, и она всячески расхваливала мне своего скорняка. Потом пришел Филипп; она, вероятно, предупредила его о своем визите, потому что он вернулся из конторы раньше обычного. Манто стало чем-то ненужным, почти незаметным, и его место занял марракешский сад.
– Вы не можете представить себе, Изабелла, что это такое… Утром я гуляю босиком по теплым фаянсовым плиткам, среди апельсиновых деревьев… Вокруг каждой колонны вьются розы и жасмин… В цветах и листве порхают голубые бабочки… а поверх крыш виднеются снеговые вершины гор, сверкающие, как дивный алмаз… – («Алмазы уже упоминались в Санкт-Морице», – мелькнуло у меня.) – А что за ночи! Ярко светит луна, и кипарисы как бы указывают на нее своими черными перстами… В соседнем саду звучит арабская гитара… Ах, Марсена, Марсена, как я все это люблю!..
Слегка откинув голову, она, казалось, вдыхала благоухание жасмина и роз.