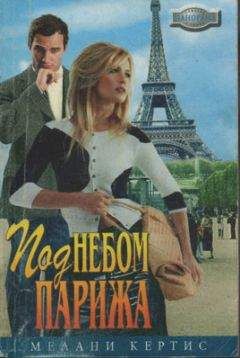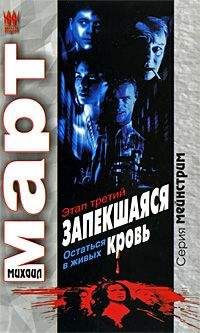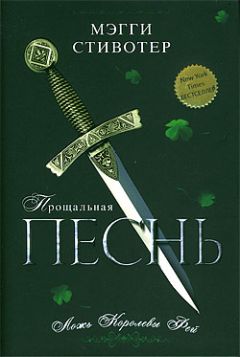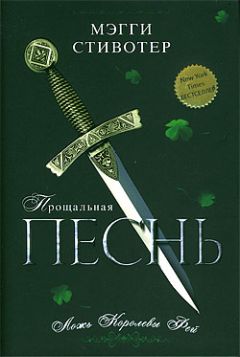Но на этом сходство кончалось. Ибо бабушка Остина ничем не запятнала себя, а Холли знала, что виновна — виновна в жестоком обмане. Она заслужила наказание, и Остину решать: месяц или столетие ей провести в заточении. Холли бродила по комнате из угла в угол. Минуты складывались в часы, часы — в дни. Ветер завывал однообразный унылый напев, и девушка все чаще ловила себя на том, что стоит у окна, взирая вниз на двор с чувством, очень схожим со щемящей тоской.
После двух недель заточения Холли начала видеть свое недвижимое тело внизу на плитах и гадать, какова будет реакция Остина, когда он обнаружит его. Положит ли он ее к себе на колени, каясь в своей жестокости, как перед этим поступил его отец, или же испытает облегчение по поводу того, что так легко освободился от жены и теперь ему не надо испрашивать у короля позволения расторгнуть брак?
Холли поднялась на стул, затем шагнула на узкий подоконник, взявшись руками за обтесанные камни оконного проема. На нее повеял теплый ветер, прилепивший тонкую рубашку к дрожащему телу, принесший на своих крыльях вкус лета, жизни и свободы. Оторвав взгляд от выложенного плитами двора, Холли устремила его на окрестности вокруг замка, упиваясь их первозданной красотой. Красотой дикой и своеобразной, настолько неотразимой, что она не могла отвести взгляд.
У Холли подогнулись колени. Она на четвереньках сползла вниз на стул, зажимая рот и борясь с тошнотой, вызванной мыслью, что она могла бы сделать, если бы свежий ветер не заставил ее очнуться, не развеял туман отчаяния. С таким ощущением, словно она только что пробудилась от тяжелого сна, Холли огляделась вокруг, впервые отчетливо рассмотрев комнату, в которой находилась. Да, отец называл ее самовлюбленной и ветреной, но он ни за что не пожелал бы ей такого жестокого наказания. Что бы там ни думал ее муж, она виновна лишь в легкомыслии, а не в прелюбодеянии.
Ветер завывал в дымоходе, но теперь звук этот не приносил утешения, а раздражал Холли. Соскочив со стула, она схватила с комода стопку белоснежного белья и заткнула им дымоход. В ней проснулась энергия, и сразу же голод дал себя знать. Обойдя стол, Холли схватила ломоть хлеба и уселась на пол, подобрав под себя ноги. С жадностью поедая хлеб, она вдруг ощутила, как у нее в груди что-то шевельнулось. Что-то более сильное, чем голод.
Гнев.
Когда вечером Винифрида принесла ужин и горячую воду для умывания, Холли сообщила служанке, что ей требуются перо и бумага. Несмотря на опасения, что девушка напишет какое-то жалобное слезливое послание, которое сэр Остин откажется читать, на следующее утро Винни принесла все необходимое.
Когда же она вернулась ближе к вечеру, Холли вручила ей составленный на десяти страницах список того, что требует от своего мужа для собственного удобства. Слова «мужа» и «удобства» были несколько раз подчеркнуты.
На следующее утро Винни пришла в сопровождении двух служанок, сгибающихся под тяжестью лохани, полотенец, простыней, пялец, ниток, благовоний, свежих фруктов, арфы, восковых свечей, метлы, книг и прочих вещей, которые должны были сделать заточение Холли если не приятным, то хотя бы терпимым.
Девушки завороженно смотрели на нее, и Винни пришлось, вытолкнув их из комнаты, захлопнуть дверь прямо у них перед носом. После чего служанка смущенно кашлянула.
— Господин хочет знать, не потребуются ли тебе лимоны, чтобы натирать ими локти, или, быть может, рабыня, чтобы каждый вечер перед сном по пятьсот раз проводить гребнем по волосам.
Холли вонзила зубы в сочное красное яблоко.
— Передай ему, что, учитывая нынешнюю длину моих волос, достаточно будет и двухсот пятидесяти раз.
После ухода Винифриды Холли критическим взглядом окинула свою добычу. Она получила почти все, что можно использовать в качестве оружия против мужа. Из комода у кровати уже были извлечены ее боевые доспехи: платья из венецианской парчи, шитые золотом, плащи, опушенные нежнейшими соболями, шелковые рубашки, настолько прозрачные, что подходили они скорее гарему султана, а не спальне знатной английской дамы. Большинство предметов одежды требовало лишь незначительной переделки и тщательного проветривания.
Взяв одно платье и корзинку для рукоделия, Холли устроилась поудобнее на солнце у окна. У нее на устах появилась дьявольская улыбка. Если Остин решил, что ему удастся запереть жену в башне и забыть о ее существовании, это говорит о том, что он совершенно недооценил своего противника и скоро пожалеет об этом. Готовясь к предстоящему сражению, Холли решила воспользоваться своим самым сильным оружием.
Закинув голову, она запела.
Голос Холли раздавался не умолкая.
Она пела, вытирая пыль, сметая паутину с потолка и стен и моя пол. Она пела, заменяя изъеденное молью покрывало парчой, обшитой мягким мехом. Она пела, пока Винифрида и служанки приносили ей горячую воду для ванны. Она пела, лежа в лохани, пела потом, втирая благовония и масло в кожу, не знавшую долгое время ухода, возвращая ей перламутровую белизну. Она пела, расчесывая отрастающие волосы, и каждый вечер, укладываясь в постель, она тихо убаюкивала себя песней.
Холли пела все, что могла вспомнить, — веселые песни и грустные баллады. Она пела трогательные гимны крестоносцев и сложные рондо, поочередно исполняя партии разных голосов. Она пела детские песенки и непристойные стишки. Она пела церковные, светские песни, элегии и куплеты бродячих менестрелей. А однажды на закате, встав у окна, Холли так вдохновенно исполнила величественный гимн, что даже заточенный в подземелье отец Натаниэль обратил свой взор к небесам, ища хор божественных ангелов.
Остину были неведомы подобные заблуждения. Эти мелодии, словно хлеставшие его бичами, были не райским блаженством, а нашествием демонов. Каждый звук терзал его плоть, точно когти Люцифера. Нигде нельзя было укрыться от колдовского пения Холли. Остин чувствовал, что, даже если ускачет на край земли, оно настигнет его и там.
Он не знал, поет ли Холли во сне, но, видит бог, в его снах она пела. Она наполняла своим голосом его кошмарные сновидения.
Но больше всего Остина донимали не громогласные гимны, а тихие колыбельные, которые Холли пела по вечерам усталым голосом, чуть тронутым хрипотцой. Именно в такие мгновения ее пение казалось самым чарующим. Именно в такие мгновения ему приходилось напоминать себе, какую жестокую судьбу хотели уготовить Одиссею сладкоголосые сирены.
А затем однажды в предзакатные сумерки, когда Ос-тин уже был готов просить Кэри привязать его к столбу во Дворе, подобно Одиссею, которого привязали к мачте собственного корабля, пение оборвалось. Именно оборвалось. Ни намека на хрипоту. Не затихло, не прекратилось. А просто оборвалось.