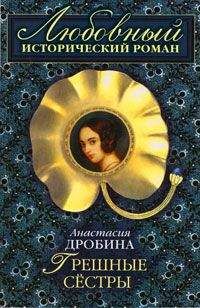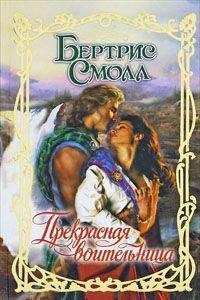– Что с отцом? – глухо спросил Владимир. Сердце, прыгнув, остановилось под горлом.
– Преставившись батюшка ваш. Сразу после Рождества скончались. Удар был.
– А… что же Янина Казимировна?
– Так ведь из-за них все и вышло. – Фролыч снова протяжно, основательно высморкался в снег, перевел дыхание, последний раз провел по глазам растрескавшейся ладонью. Глядя прямо в глаза Владимиру, сказал: – Уехали Янина Казимировна. С соседом, помещиком Мартыновым, за границу уехали, ночью он ее увез. И ведь как ихнее превосходительство не уследили, как не подумали!.. Ведь вся дворня болтала, что неспроста этот Мартынов всю зиму у нас в гостях просидел, на фортепьянах с барыней играл, книжки всякие ей возил… Вот и довозился, прости господи. Стало быть, уехали они, а мужу законному только писульку на комоде оставили. Ихнее превосходительство прочитали, к себе в кабинет ушли и закрылись. К завтраку не вышли, к обеду не вышли, к ужину уж я обеспокоился… Дурак старый, нет чтоб раньше всполохнуться… Звали-звали – без толку, потом уж дверь, благословясь, сломали… а ихнее превосходительство на полу лежат без движенья. Кинулись мы за лекарем, да уж что толку…
– Значит, Янины нет, а батюшка умер… – медленно проговорил Владимир.
– А я, а я о чем вам толкую! – старик всполошился, как снесшаяся курица. – Владимир Дмитрич, вы уж, побойтесь бога, не уезжайте! Ведь это чудо небесное, что я вас тута встретил, а то бы ищи снова ветра в поле! Куда же вы исчезли-то? Ведь пять лет, шутка ли? И ни слуху ни духу… Что с имением-то будет, с делами, с хозяйством? Воруют ведь, проклятые, я за всем уследить не могу, да и как без хозяев-то?.. Без хозяев, сами знаете… Даже завещание батюшки вашего так невскрытое в конторе, в городе, и лежит, без наследников как вскрывать-то? Ох, слава богу, что вы объявились! – Старик вдруг бухнулся на колени прямо в грязный, коричневый снег и истово закрестился на недалекую церковь. Через его голову Владимир видел маячившего в двух шагах Северьяна с вопросительной гримасой на лице. Владимир сделал ему знак приблизиться. Молча поднял с колен Фролыча, отряхнул старика от снега и сумрачно сказал Северьяну:
– Сдавай билеты. Мы едем в Раздольное.
– Да, и я прямо так ему и сказала! Прямо так и провозгласила: «Если эта бесталанная дрянь будет играть Офелию – я застрелюсь прямо перед домом губернатора! А все знают, как их превосходительство благосклонно ко мне относился и какие букеты изволил присылать к бенефису! Скандал будет страшнейший, безобразный, вам не спасти труппу и не собрать сборов! И если бы вы слышали, что эта скотина мне ответила!.. Нет, не могу это повторить, не могу, не могу…
С авансцены, где вокруг примы Купавиной столпились актрисы на выходах и комические старухи, донеслись великолепно исполняемые рыдания. Софья невольно поморщилась; посмотрела на сидящую напротив Мерцалову, ведущую драматическую актрису труппы: молодую женщину лет двадцати шести, с темным цыганским лицом и большими черными глазами. Мерцалова чуть заметно кивнула в сторону Купавиной, горько и насмешливо усмехнулась и снова перевела отрешенный взгляд на пыльную декорацию к «Ричарду III». Мадемуазель Мерцалова была на шестом месяце беременности, и мешковатое коричневое платье из дешевой саржи оказывалось не в силах это скрыть.
– Господа, господа, все по местам! Где Гамлет? – раздался отчаянный голос антрепренера Гольденберга, и статистки, как вспугнутые птицы, кинулись врассыпную. – Гамлет! Гамлет! Василий Львович, ну вы же меня без ножа зарежете! Последняя репетиция, Лаэрт в запое, Офелия не знает роли, а Гамлет изволит являться с похмелья! Первый спектакль после Великого поста – и такой конфуз! Ей-богу, брошу, брошу все и уеду в Бессарабию пшеницей торговать!
– Вот-вот, самое место, – не очень тихо произнесла Мерцалова, не поднимаясь с места. Гольденберг, низенький и приземистый, в своем пыльном черном сюртуке уморительно похожий на пингвина из книги Брема, повернулся к ней всем телом, нахмурился было, но Мерцалова уже снова равнодушно смотрела в сторону, и антрепренер махнул рукой:
– Па-а-а местам! Офелия! Софья Николаевна, что же вы? Ваша сцена репетируется!
Софья встала с бутафорской тумбы, неловко задев занавес и подняв тучу пыли, заигравшую в широком солнечном луче, бьющем из окна. Это был первый солнечный день с начала весны, даже здесь, в зале, было слышно, как звонко капает вода с покрывающих скат крыши сосулек и с какой суматошной веселостью гомонят в ветвях влажных, голых деревьев птицы. Но настроение у Софьи было нерадостное, и репетировать совсем не хотелось – несмотря на то, что ей досталась роль, о какой актрисы мечтают годами.
Каким же чудесным, замечательным ей казалось все осенью, в первые дни пребывания в театре! Как прекрасно, казалось, все складывается! В труппе ее приняли хорошо. Даже гранд-кокетт Режан-Стремлинова, та самая дама с рыдающим голосом, встреченная Софьей в самый первый день в кабинете антрепренера, убедившись в том, что новенькая – не актриса, а принята всего лишь статисткой, благосклонно покивала ей и позволила обращаться за советами. Молодые же девицы на выходах, инженю и травести, приняли Софью и вовсе восторженно, с писком и объятиями, как институтки. Ей тут же надарили всяких пустяков, от почти новых чулок до затрепанного тома Шекспира, забросали вопросами, взахлеб рассказывали собственные истории, и после получасовой беседы с этой бедно одетой, веселой, шумной ватагой девиц Софья почувствовала страшную головную боль. В Грешневке они с Катериной месяцами довольствовались обществом друг друга и Марфы, беседы со старостой и постоянная ругань с мужиками из-за дров, сена и денег, разумеется, в счет не шли, и долгих задушевных разговоров Софье вести было не с кем.
Более всех ей понравилась Мария Мерцалова, драматическая актриса, пришедшая на репетицию под руку с героем-любовником и трагиком Снежаевым. Мерцалова просто поздоровалась с новой статисткой за руку, сказала несколько любезных фраз и, не впав, к облегчению Софьи, ни в какие душевные откровения, сразу же взошла на пустую сцену, откуда и позвала низким, красивым голосом:
– Ну же, друг мой, пора начинать! Вы помните, что мы вчера говорили про монолог?
Снежаев, сбросив пальто на ряд кресел, взбежал на сцену, его каштановые волосы взлетели пышной волной, статистки и инженю дружно ахнули и закатили глаза.
– Все эти дуры в него тут влюблены, – тут же сообщила Софье комическая старуха Ростоцкая, еще совсем не старая, полная дама лет сорока пяти с веселым лицом и густыми черными бровями, похожая на рыночную торговку где-нибудь в Малороссии. – Все до единой письмами забрасывают, и платочки надушенные шлют, и в кулисах во время «Гамлета» вздыхают! Курицы безмозглые, одно слово… Уж брюхатил их Васька, брюхатил – все не впрок… Ты-то смотри не попадись! А что морщишься? Привыкай, девушка, тут тебе не гимназия, а театр, нравы жестокие…