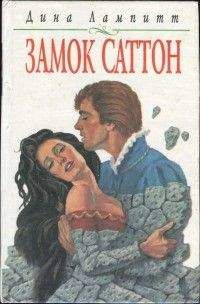Стук в дверь заставил ее вздрогнуть, ибо мысли ее унеслись далеко: она снова была в парке Саттон невдалеке от руин усадьбы летним днем восемь лет назад. Именно тогда она впервые увидела странную фигуру, выходящую из леса с котомкой за спиной. Жиль, странствующий актер, цыган-балагур, пришел поглазеть на новых хозяев усадьбы.
— Войдите, — отозвалась она.
Это был он. Одетый и поднявшийся с постели, лицо того же ужасного землистого цвета, каким оно было все эти последние месяцы. Но при этом он пытался широко улыбаться.
— Жиль! — уговаривающим тоном произнесла она. — Что ты делаешь? Доктор Бартон строжайше велел тебе отдыхать, чтобы… быстрей поправиться.
Его лицо моментально превратилось в маску, лишенную какого-либо выражения, как всегда бывало в случаях затруднений. Только на этот раз в глубине его глаз сохранилось «пусть-будет-так-если-вам-это-нравится».
— Понимаете, миледи, — сказал он. — Мне очень трудно лежать неподвижно, как бы удобно ни было. Я по своей природе — беспокойное существо и, по правде, более несчастен, когда лежу, если, конечно, не пьян и не сплю, чем, когда стою. Поэтому, если миледи разрешит мне сидеть, когда я устаю…
Недовольная своей несообразительностью, Анна указала ему на стул напротив себя.
— …И тогда, я думаю, вы убедитесь, что я поправлюсь быстрее. Стоять или сидеть мне нравится гораздо больше, миледи.
Анна колебалась.
— Но доктор Бартон сказал…
— Ну, это для его обычных пациентов, миледи. Мы, цыгане, — совсем другие.
Повисла тишина. Конечно, Анна, будучи госпожой, могла приказать ему находиться в его комнате, но, если человек умирает, ему должно быть дозволено то, что делает его спокойнее.
— Если это доставляет тебе удовольствие, Жиль, можешь не ложиться в постель. Но только обещай мне, что будешь отдыхать, едва почувствуешь усталость.
— Даю слово, миледи.
Их глаза встретились, и каждый понимал, что другой знает правду, но боится сказать: мешали щепетильность и молчаливый договор. Хотя Анна, как истинная католичка, понимала, что обязана в какой-то удобный момент предложить Жилю встретиться со священником, она заранее боялась его реакции.
— Тогда все в порядке, — сказала она.
— Правда, миледи?
Вот оно. Он собирался объясниться. Он был уже слишком близко к земле и тайнам бытия, чтобы его можно было обмануть. Скорей всего, он уже давно знал — раньше, чем доктор Бартон. Бедный, смелый маленький Жиль.
— Пожалуйста, миледи, давайте поговорим прямо.
— Да, — согласилась она тихо.
— Врач — хоть он и добрый человек — ничего не может для меня сделать. Во мне растет болезнь, съедающая меня. Поэтому, миледи, я прошу вас как добрую госпожу и друга сделать для меня две вещи, чтобы я мог уйти из этого мира спокойно.
— Что же именно?
— Позволить мне повидаться с госпожой Кэтрин. Она не приезжала в замок Саттон с тех пор, как сбежала с сэром Джоном, и я горевал о ней, особенно потому, что гнев сэра Ричарда не ослабевает.
— А вторая?
— Я бы хотел перед концом увидеть могущественного колдуна — доктора Захария. Господин Фрэнсис говорил мне, что в нем течет цыганская кровь, он — самый знаменитый астролог на земле. Как бы мне хотелось встретиться с ним!
Анна молчала. Вызвать доктора Захария было нетрудно, но пойти против Ричарда и написать Кэтрин! Но тем не менее какой прекрасный предлог. И тут же ей стало совестно, что она думает о смерти человека как о «предлоге» и к тому же «прекрасном». А как бы ей хотелось снова увидеть дочь. Три горьких года, в течение которых письма от Кэтрин с ее мольбами приходили все реже и наконец совсем прекратились. Конечно, приносили много радости визиты Маргарет и Уолтера; хотя это счастье было омрачено в январе потерей горячо желанного первенца Маргарет — на четвертом месяце беременности. И тем не менее Анна задумывалась, что, может быть, она уже бабушка. Может статься, Кэтрин родила ребенка и не сообщила ей. И Анна Вестон приняла решение.
— Я сегодня же напишу Кэтрин, Жиль, — твердо сказала она.
— А как же гнев сэра Ричарда, миледи?
— Сэру Ричарду придется пережить это, как подобает мужчине. Быть оторванным от собственной плоти и крови — это неестественно. Ему придется склониться по ветру — это он умеет лучше всего.
— Да, когда это его устраивает, миледи.
В другое время она сделала бы ему замечание за колкость в адрес господина, но в теперешних обстоятельствах не обратила на это внимания.
— Я попытаюсь связаться с доктором Захарией.
Жиль поцеловал ей руку и на секунду прижал ее к своей морщинистой щеке. Она почувствовала тепло его слез, и это было уже слишком для нее. Нарушая все условности, она обняла его и заплакала.
* * *
Было 23 июля, и зал заседания легатского суда Блэкфраерз был забит до отказа. Внимательно осматриваясь вокруг внешне незаинтересованным взглядом, Ричард Вестон составил в уме список всех тех, кто пришел сюда, чтобы своими ушами услышать решение суда по признанию брака короля недействительным. Сегодня настал этот день. Как только прибудет король, кардинал Кампеджио зачитает вердикт.
В центре зала стояло пока пустое высокое кресло, которое ненадолго займет король, а пониже — большой стул для итальянского кардинала. Рядом с ним было место Уолси. Ричард заметил, как плохо выглядит его патрон, уже усевшийся на свое место Складки кожи свисали по бокам его лица, когда-то полного и цветущего, и тело, которое было величаво дородным, теперь казалось утонувшим в большом красном плаще. У него за спиной, непрерывно нашептывая что-то толстыми губами ему на ухо, а глазами зорко оглядывая зал, сидел человек, всегда казавшийся Вестону олицетворением слова «банальность» — секретарь Уолси, доктор Стефен Гардинер. Но сегодня, казалось, он обрел новую мощь — как будто он вытягивал жизнь из своего увядающего господина.
«Человек, за которым надо смотреть в оба», — подумалось Ричарду.
Он перевел свой взгляд со священнослужителей на пэров Англии. Следовало бы действительно отмстить тех, которые отсутствовали, так как почти все сиятельные особы этой страны прибыли сюда в такой важный день, когда пишется история, когда брак короля Англии будет признан недействительным и аннулирован в глазах всесильного вечного Рима.
Впереди всех, конечно, был мастер самопродвижения — Томас Болейн, лорд Рочфорд. Напряженное выражение застыло на широком лице, а его большие темные глаза, так похожие на глаза кошки, которая и была сутью и поводом всех этих громких событий, смотрели задумчиво перед собой. Ричард в душе был доволен. Он надеялся, что через несколько минут надежды самодовольного дурака будут развеяны, а вместе с ними и надежды его дочери.