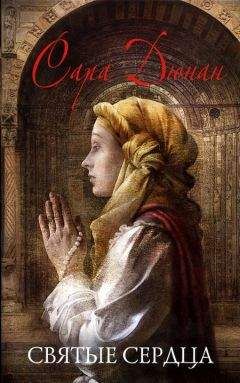Его тело едва успело коснуться пола, как она была уже рядом с ним, криком сзывая слуг и пытаясь поднять его. Она сделала все, чему он ее учил: ослабила ему воротник, звала его по имени, перекатила на бок — хотя он был тяжелым и неповоротливым, как куль зерна, — влила немного воды из кувшина в его полуоткрытый рот. Но чувство было такое, словно его тело опустело. Его, ее отца, не было в нем. Ни движения, ни вздоха, ни намека на пульс — ничего. Казалось, будто жизнь, не желая причинять никому беспокойства и вызывать суету с лекарствами и сиделками, просто выскользнула из него вместе с последним выдохом.
Позже, когда пришел священник, тело подняли и перенесли на стол в лаборатории, а дом наполнился слугами и рыдающими людьми, она, потрясенная настолько, что слезы не шли из ее глаз, вернулась к той книге и обнаружила, что это был шестой том, посвященный грудной клетке, а на порванной странице была иллюстрация, изображавшая сердце в разрезе и кровь, текущую из его левой половины в правую. Эта глава вызывала у него особое раздражение, поскольку демонстрировала явное противоречие между авторитетом великого Галена и свидетельством, которое Везалий добыл собственным ножом. Сам Везалий впоследствии зашел настолько далеко, что объявил об ошибке Галена: кровь не текла и не могла течь таким образом, ведь он своими глазами видел плотную мышечную стенку без отверстий, а значит, двигаться крови некуда.
Когда много лет спустя это известие достигло ее за решеткой монастыря, она подумала, что, может быть, именно об этом размышлял ее отец за мгновение до смерти, а еще о том, что мертвое сердце на той картинке и потеря им живительного дыхания, возможно, были не просто совпадением, а знаком, оставленным ей для того, чтобы она лучше поняла его смерть. И конечно, когда затихло его сердце, затихло и все остальное, от звука его голоса до всех тех мыслей и слов из огромной библиотеки его опыта, которые еще не были записаны и потому исчезли навсегда.
«Ну же, вставай, Фаустина. Довольно плакать, пора за дело».
И он был прав. Нельзя горевать вечно, а сделать нужно было многое. Не успел священник прочесть отходную по усопшему, как передняя наполнилась хлопаньем крыл огромных стервятников, и если бы она не перестала плакать, то и не заметила бы, как с полок его кабинета начали пропадать самые ценные книги или как учителя и честолюбивые студенты, пришедшие почтить его память, рылись в его бумагах и забирали оттуда странички, «оставленные ему на хранение». Это была своего рода лесть. Врач со связями при дворе оставил после себя брешь, которую предстояло закрыть другим; и на что молодой женщине нужны книги по травам и сборники рецептов, даже если бы она могла ими распоряжаться?
Однако по-настоящему их общение началось лишь после похорон, за несколько дней до того, как ей предстояло уйти в монастырь, когда у девушки-кухарки вдруг случились чудовищные спазмы в животе и головная боль, сопровождавшаяся сильнейшей рвотой. Это была долговязая, голенастая деревенская девочка в том возрасте, когда кости, кажется, растут быстрее плоти. Зуана нашла ее лежащей на полу и скрючившейся так, что девочка едва смогла разогнуться и показать, где у нее болит.
«Ну же! Неужели ты так скоро забыла все, чему я тебя учил?» — сказал его голос прямо ей в ухо, когда она нагнулась над девушкой.
Зуана так волновалась, что ее руки тряслись, когда она щупала пульс. Не найдя его на запястье, она стала щупать шею за ушами, как он ее учил, и там ощутила биение, сильное, но не настолько частое, чтобы заподозрить опасную лихорадку. Тогда она занялась головной болью, сделала повязку из листьев вербены в уксусе и положила девушке на лоб, а потом стала поить ее водой с базиликом и коньяком, чтобы успокоить ее желудок или заставить его извергнуть то, что вызывало спазмы. И поскольку она все равно не могла заснуть, сколько ни пыталась, то сидела рядом с девушкой всю ночь, пока та стонала и металась.
«Ну? — спросил он прямо перед рассветом, в тот час, который, кажется, больше подходит мертвым, чем живым. — Каково теперь твое мнение?»
Зуана положила ладонь девушке на лоб. «Если у нее была лихорадка, то теперь она прошла. Но судороги остались. Будь это отравление, у нее уже начался бы понос. Может быть, следует увеличить дозу коньяка, чтобы вызвать очищение кишечника?»
«Возможно. А что, если его незачем очищать?»
«Но внутри что-то есть. Я определенно чувствую мягкость».
«Где? Покажи».
Она кладет свои ладони на сорочку, покрывающую тело девушки, и двигает их от желудка вниз, к лобковой кости. Но правда заключается в том, что она не знала точно где, ведь, хотя она видела гравюры с изображением внутренностей женского организма, настоящую женскую плоть она ощущала впервые.
«Вот».
Но он тем временем уже замолчал.
Девушка застонала, выгибаясь дугой в ответ на давление и боль. И тут сквозь ее сорочку Зуана впервые заметила острые бутончики юных сосков. Она отошла от кровати и вернулась наверх, в рабочую комнату, где сняла с полки мешочек с мятой и листьями воловика, которые заварила горячей водой с вином. Какая она глупая! Неудивительно, что он перестал говорить с ней.
Вернувшись в комнату, она помогла девушке сесть, чтобы та могла выпить.
— О-о-о! Ой, я умираю.
— Вовсе нет, — сказала Зуана. — Причина скорее в том, что ты растешь.
Уже наутро из девушки вышли несколько комочков черной крови, за которыми последовало явное менструальное кровотечение.
— Я должна была понять. — Вернувшись к себе, она ощутила такую усталость, что не могла даже раздеться. — Почему же я не поняла? Все же так просто.
«Простое и оказывается иногда самым сложным. Вот почему важно продолжать задавать вопросы и наблюдать».
«Может быть, если бы у меня была мать…» — хотела сказать она, но не стала, ведь думать об этом сейчас означало бы признать потерю обоих родителей.
«Ты хорошо справилась. А теперь в постель, Фаустина. Сон нужен тебе не меньше, чем твоей пациентке».
— Нет! Не уходи. Пожалуйста, останься.
«Не беспокойся. Я буду рядом, когда понадоблюсь…»
— Бенедиктус. — Голос, который раздается за ее спиной в аптеке, громкий и настоящий.
Зуана поворачивается так поспешно, что в голове у нее начинает стучать, и ей приходится схватиться за стол, чтобы не упасть. Прямо за ее спиной, в шаге от нее, стоит сестра-наставница Юмилиана, чьи толстые, как подушки, щеки покраснели и покрылись сеткой сосудов на холодном зимнем ветру.
— Део грациас. — Неужели она говорила вслух сама с собой? Нет, конечно.
— Я потревожила тебя, сестра? — спрашивает старшая женщина. — Я слышала голоса.