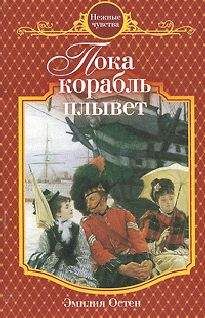Фредерик же разместился между отцом и Реми, в его привычном виде, с привычными четками в порхающих пальцах. Мачеха окинула меня кислым, как клюквенное варенье, взглядом, но торжество скрыть была не в силах – наконец-то я покидаю этот дом. Наконец-то.
– Веди себя прилично, Мари, – вот все, что она мне сказала.
И мы поехали, в молчании, даже Реми умолк, стук дождя по крыше кареты навевал сон. Я удивилась, что в такой день хочу спать, что так спокойна; видимо, Господь и вправду дает нам силы в тот час, когда они нужны. Иногда, поднимая скромно опущенную голову, я сталкивалась с Реми взглядом и не понимала, как другие не видят тех ярких искр, что скользят между нами. Но никто не замечал, все молчали и думали о своем.
Мы ехали долго, больше часа, сквозь шумный, пышущий богатством и нищетой город; я вслушивалась в его привычную круговерть, которая давным-давно растворилась в моей крови, так что даже запоминать не потребуется. Не думаю, что мне захочется всегда помнить Париж. Иногда стану вспоминать его, но вряд ли сюда вернусь. Впрочем, зарекаться не стоит.
Наконец карета остановилась, поджидавшие нас слуги распахнули двери. Первым высадили Фредерика, удивительно тихого в своем праздничном костюмчике, затем вышла мачеха, за нею поспешил отец. Реми же, прежде чем покинуть карету, легонько сжал мои пальцы. «Мы с тобою вместе, держись».
Я держалась.
Дождь усиливался, мы быстро прошли к церкви, стоявшей посреди леса, в котором, я знала, прячутся домики: народ здесь селился небогатый, одна радость – воздух чистый. Вереница карет говорила о том, что гости уже съехались. Меня провели в комнату недалеко от входа, мачеха с Фредериком отправились на свои места, и Реми, бросив на меня последний упреждающий взгляд, исчез. Ему легче, чем мне: он знает, как намерен завершить драму, я же по-прежнему остаюсь в неведении касательно некоторых деталей. Однако лошадей с гербами королевской гвардии на попонах я у церкви приметила. Что задумал Реми, он скупо мне объяснил, обещая, что мне понравится, и в который раз попросив о доверии. Я доверяла ему, как самой себе доверяла.
В последние дни он часто отсутствовал, уезжал куда-то дня на три, затем вернулся, оживленный. Сегодня утром исповедовал меня, на самом деле мы сидели в исповедальне и шепотом советовались о том, что грядет. Реми убеждал меня, что все получится лучше некуда. Он стал завзятым фокусником, смеялся он сам над собою. Ни слова о будущем, будто после нашего мнимого с виконтом венчания ничего нет – пустота, обвал в воющую диким ветром вечность.
А может, загадывать – плохая примета.
– Мари, – отец прервал мою задумчивость, – готова ли ты? Скоро позовут.
– Да, давно готова, – сказала я, – ты даже не представляешь как.
В сумеречном дождевом свете лицо моего отца казалось мне нарисованным.
– Девочка моя, – он взял меня за плечи, – помни: что бы ни случилось, как бы ни сложилась твоя жизнь, я любил тебя и буду любить.
– Да, отец, – сказала я. Нет, не буду сейчас плакать, не до того. Он меня не знает и любит то, что видит, то, что я показываю ему, однако, если бы знал, полагаю, все равно бы любил. Если даже подозревал он мою мать в прелюбодеянии, то простил давно, лишь одна я за нее ничего не простила.
Бог видит меня. Бог знает.
Отец подал мне руку, и мы пошли.
Пел орган, наполняя внутренность часовни удивительно гармоничным звуком. Все лица гостей повернулись к нам – круглые и вытянутые, красивые и не слишком, старые и молодые. Я шла под прицелом десятков глаз, гордо выпрямившись, к белому резному каменному алтарю, у которого меня ждали два человека.
Виконт де Мальмер, убийца моей матери, палач моего возлюбленного.
И Реми де Брагене, возлюбленный мой, в одеждах священника.
Отец передал мою руку виконту, отошел и сел в первом ряду, вместе с мачехой. Мальмер был хорош: в расшитом изумрудами камзоле, при шпаге, чья рукоять искрилась холодным блеском камней. Запах лилий, которыми украсили часовню, вызывал головную боль, я чуть прикрыла глаза, чувствуя, как пальцы виконта поглаживают мою ладонь. Реми начал читать молитву, и в ее неторопливой святой сладости растворилось последнее беспокойство.
Мне казалось, кинжал мой пылает в ножнах под верхней юбкой, словно меч архангела Михаила.
– Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света. Теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, перестав быть ветхим человеком с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
Его голос плывет надо мной, и головная боль отступает, говоря о любви, Реми смотрит на меня. Только мне и ему ведомо, о ком он говорит, кого нынче связывают эти слова. Только его потрескавшиеся губы – для моих губ, его сердце, бьющееся так быстро, – для моего сумасшедшего сердца. Кто бы мы ни были с ним – грешники или святые, преступники или невинные жертвы, – мы припаяны друг к другу навеки, и нас даже смерти не разлучить. Она придет однажды, конечно, ко мне или к нему, а может, к нам обоим вместе, вполне возможно, что и сегодня нанесет визит. Но мы ее сильнее, ей нас не взять. Один просто подождет другого там, на перепутье дорог, что сходятся перед воротами; святой Петр, этот вечный ключник Господа, подождет нас обоих.
– Обратитесь нынче к Господу, дети мои, обратитесь и узрите Его лик. Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его. – Реми возвысил голос, обратив свой взгляд на виконта. – Ибо сказано в Писании: веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.
Я чувствовала, что виконт напрягся, руку мою он стиснул сильнее. Он не понимал, отчего священник завел речь о гневе Господнем и к чему это сейчас, когда идет обряд венчания и уместней говорить о любви и супружеском долге. На скамьях зашушукались, шепоток защекотал слух. Впрочем, Реми не