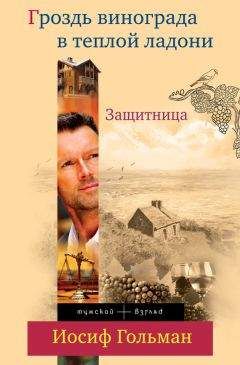– Ты, конечно, понимаешь, почему я настоял на том, чтобы ты сопровождал меня, – заговорил он снова. – Наша встреча произошла при свидетелях. Полицмейстер зорко наблюдал за нами и, мне кажется, уже заподозрил что-то. Надо было устранить его подозрения, и продолжительная беседа со мной избавит тебя от них.
– Разумеется, потому что предполагают, что всякую подозрительную личность р-ский губернатор тотчас же передает в руки полиции. Я был уже готов к этому, как только ты узнал меня, и положительно не знаю, какому капризу обязан своим спасением. Но откровенно сознаюсь, Арно, я мечтал о том, чтобы еще раз в жизни с глазу на глаз встретиться с тобой. В противном случае я предпочел бы сразу отдаться в руки сыщиков, чем последовать за тобой.
– С тех пор как мы расстались, – произнес Равен, – ты так открыто выказал себя моим врагам, что я должен был быть готовым к подобной встрече. Но ты знаешь, что я всегда не выносил оскорблений и с годами не стал податливее. Поэтому не злоупотребляй своим настоящим положением, исключающим всякое право на удовлетворение с твоей стороны, и предоставь мне возможность говорить с тобой!
Эти слова не произвели никакого впечатления на Бруннова, и он ответил еще более враждебным тоном:
– Я вижу, что ты не утратил своего властного тона. В былое время всякий, кто пытался противиться тебе, уступал этому тону, и я сам невольно подчинялся ему. Я боготворил тебя и слепо следовал за тобой, потому что ты мог вести только к самым высоким идеалам… Следовал за тобой до того самого дня, когда мой обожаемый идеал рассыпался в прах. Не пытайся же снова применить свою прежнюю власть! Я преклонялся перед тобой только до тех пор, пока верил в тебя, а эта вера уже давно миновала. Увы! Твое сердце всецело занято честолюбием, и тебе не понять, что я утратил вместе с ней.
Наступила томительная пауза. Наконец Равен сказал:
– Если ты когда-нибудь и любил меня, то тем сильнее теперь ненавидишь.
– Да! – был короткий и энергичный ответ.
– Да, у меня даже есть доказательства этого. Еще недавно я задумывался над тем, откуда у одного из моих незначительных чиновников взялась смелость швырнуть мне в лицо перед всем светом неслыханные оскорбления; я забыл, что он побывал в твоей школе. Винтерфельд ведь жил в твоем доме, он – друг твоего сына, а также и твой, и проявил себя весьма способным учеником. В его выпадах сразу виден его наставник.
– Ты ошибаешься, Георг Винтерфельд проявил свою собственную силу, достойную удивления и изумившую даже меня. Я и не подозревал его намерения, он и от меня держал это в тайне, и его брошюра, полученная мною от него третьего дня, была для меня настоящим сюрпризом. Но не отрицаю, что каждое напечатанное в ней слово нашло отклик в моей душе, равно как и у многих тысяч других. Будь осторожен, Арно! Винтерфельд первый осмелился открыто выступить против всемогущего барона Равена, это – первая буря, угрожающая твоей недосягаемой доселе высоте. За ней последуют другие, и они будут потрясать почву под тобой до тех пор, пока она не поколеблется и ты не опустишься так же глубоко, как высоко стоишь теперь.
– Ты так думаешь? – презрительно спросил барон. – Тебе следовало бы лучше знать меня. Я могу пасть и в своем падении увлечь за собой и других, но опускаться мне несвойственно; да и не так далеко еще зашло дело. Мне известны те враждебные силы, которым брошюра Винтерфельда развязала руки, однако им не придется торжествовать и видеть меня удаленным с места, которое я давно и прочно занимаю и которого никогда добровольно не оставлю. Конечно, люди не прощают такой карьеры, какую сделал я.
– Дорогой ценой! – холодно заметил Бруннов. – Ты заплатил за нее своей честью. Да, да, честью!.. Нужно ли напоминать тебе о том дне, когда наш союз был открыт, наши бумаги конфискованы, а нас самих бросили в тюрьму? Нужно ли называть тебе имя изменника, из-за которого это произошло и который для видимости был арестован вместе с нами? Я и другие предстали перед судом, нас ожидали обвинительный приговор и каземат, из которого я спасся только безумно смелым бегством. Тебя после непродолжительного пребывания под арестом освободили, не предъявив даже обвинительного акта. Из той бури, которая стоила друзьям и единомышленникам Арно Равена свободы и целой жизни, он вышел секретарем, доверенным и будущим зятем министра, начав свою блестящую карьеру служением делу, в вечной борьбе и ненависти к которому поклялся. Таков был конец мечтаний о свободе и юношеских грез.
В лице барона не было ни кровинки, его грудь высоко вздымалась и опускалась, руки судорожно сжимались.
– А если я скажу тебе, что эта так называемая измена была лишь неосторожностью, несчастным недоразумением, за которое я дорого поплатился? Если я скажу, что вы сами своим поспешным приговором, своим безумным недоверием заставили меня примкнуть к вашим врагам?
– Тогда я отвечу тебе, что ты потерял право на доверие.
– Не раздражай меня, Рудольф! – вырвалось у Равена, уже едва владевшего собой. – Я даю тебе честное слово, и ты поверишь мне!
– Нет! – жестко ответил Бруннов. – Если бы ты пришел и заговорил со мной так, как теперь, тогда, когда я сидел в крепости и не мог допустить, что изменником являешься ты, то твои слова имели бы в моих глазах больше значения, чем свидетельство всего мира. Но два десятилетия, отделяющие нас от того времени, научили меня другому. Барону Равену, чье имя стоит во главе преследователей того самого дела, которому он некогда посвятил свою жизнь, р-скому губернатору, своим деспотическим правлением насмехающемуся над правом и законами, всего несколько дней назад приказавшему стрелять в народ, в рядах которого стоял когда-то он сам, – ему я не верю.
Лицо Равена судорожно подергивалось не то от стыда, не то от гнева, не то от боли. Но при последних словах Бруннова он вдруг выпрямился во весь рост, и в его глазах снова загорелась непоколебимая воля.
– Не к чему терять слова, – сурово сказал он. – Мое объяснение касается только той катастрофы. То, что происходило потом, было результатом моего добровольного решения, и причины, побудившие меня принять его, не относятся к нашему разговору. Я не ищу смягчающих обстоятельств, это было сделано добровольно, и потому все последствия – на моей ответственности. С того дня наши пути так безвозвратно разошлись, что теперь наши старания понять друг друга будут тщетны. Разве такому идеалисту, как ты, понятны властолюбие и честолюбие? Может быть, и понятны, но лишь как зародыши преступления, потому что ведь они зиждятся на порабощении себе подобных, и только. Я не так создан, чтобы прозябать в изгнании и за все разбитые надежды и бесполезно потраченные силы утешать себя мыслью о том, что сохранил верность своему идеалу. Проклинай меня, но я не признаю тебя своим судьей.