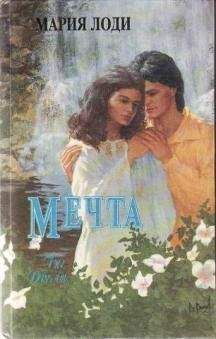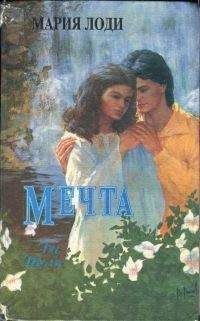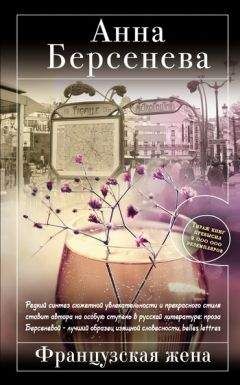— Что значит страдание, если результат того стоит? — отпарировала она.
Чувствуя, что с ней несогласны, она стала как чужая; ее глаза были прикованы к картине Габена, висевшей над камином. В этот момент она ощущала мистические узы, связывающие ее с братом, с его творческими мечтами и муками.
Она продолжала:
— Ты так уверен, что у меня нет таланта?
— Если даже он у тебя был, то ты уже его погубила писанием всей этой сентиментальной дребедени.
— Оставь меня одну, — медленно сказала Шарлотта. — Тебе лучше уйти. Мы разговариваем на разных языках.
Она намеренно оборвала разговор, испытывая странное злорадство от сознания, что он ее не понимает, и убеждая себя, что, как только он уйдет, она сядет и будет работать до рассвета, а все остальное не имеет значения.
Вспомнив примитивный сюжет своего романа, она вдруг вспыхнула. Шарлотта не обманывала себя и понимала, что это не большое искусство; это рождало горечь и сожаления.
Она страдала от ломки своего внутреннего, скрытого от глаз посторонних тайного мира, сотканного из надежд и сомнений в своих силах. Она хотела бы холодно отпустить Тома и остаться одной, уверенной в собственном величии, но не могла. Тем более что было ясно — Тома не собирается уходить. Он молча наблюдал за ней, и вдруг она ощутила, как сильно устала от борьбы с самой собой.
— Почему все-таки ты пришел сегодня? — снова бесстрастно спросила она.
— Чтобы увидеть тебя. — Он подошел к ней. — Я хотел увидеть тебя. Я не видел тебя два дня. Ты могла этого не заметить, но я заметил. И я бы не вынес, если бы провел этот вечер один, зная, что ты здесь.
Шарлотта почувствовала, как ее безопасный, разумный маленький мир разлетается на кусочки, уничтожая все ее большие замыслы, которые были минутой раньше.
— Уходи, — сказала она не очень уверенным тоном.
— Заставь меня уйти.
Он подошел очень близко, и их противостояние угасло. Его глаза снова смеялись, но он был напряжен, как зверь перед прыжком.
— Какой ты противный. Это все, о чем ты думаешь. Женщина не может всегда быть… О, ты не любишь меня! Это все, что тебе нужно.
Она почти теряла сознание, когда он наконец коснулся ее своей рукой.
— Это? — насмешливо отозвался он. — «Это» — подходящее слово. И, что самое восхитительное, не правда ли, совершенно незабываемое! Неужели ты не согласна, мое милое замечательное создание? Такое очаровательное маленькое иносказание. Ты не можешь назвать это любовью, правда? Это слово обжигает тебя. Ты скорее скажешь «это». Как «это» похоже на тебя!
Он нежно ласкал ее грудь через легкую муслиновую кофточку. Он не обнимал ее, а только стоял очень близко, слегка касаясь ее своим телом. Шарлотта прислонилась спиной к каминной полке, ощущая внезапную ошеломляющую усталость. Тома привлек ее поближе, медленно прижимая к себе, поглаживая нежную кожу на ее плече. Оба молчали, слушая удары своих бешено колотящихся сердец и прерывистое дыхание. Прислонившись к холодному мраморному камину, Шарлотта слышала резкие, доносящиеся со двора голоса, мяуканье кота и приглушенные звуки улицы. В соседней комнате, через стену, раздался шум, производимый горничной. «Ее можно позвать», — подумала, ища от себя спасения, Шарлотта.
— Анник… — слабо сказала она.
— К дьяволу Анник.
Он по-прежнему был рядом с ней, но так близко, что внезапно в ней проснулось желание, мягкое, но настойчивое и влекущее, как при прикосновении пушистого меха или бархата. Желание лежало между ними как нечто материальное, странное и осязаемое, то чужое, то вторгающееся в самые глубины сердца, когда чувства не начинают пылать. В конце концов именно Шарлотта, измученная долгим приступом дрожи, протянула руки, чтобы привлечь его к себе.
Обращаясь с ней мягко и уверенно, как с необъезженной молодой кобылой, Тома уложил ее на пол, прямо на ковер, на котором они лежали в ту безумную ночь, на второй день их любви. Грубая шерстяная ткань натирала их кожу, когда они слились воедино, но они не чувствовали этого.
О, это бесславное поражение! Еще минуту назад она верила в свою гениальность, а теперь она была заключена в жесткое кольцо мужской руки, упивалась приятным вкусом его рта, не ощущала ничего, кроме наслаждения от того, что они вместе.
Приближался момент, когда он снова должен был удовлетворить ее, должен был царствовать в ней, как главная опора дома, как мировая ось, вокруг которой вращалось ее безумное сердце. Зная это, она ожидала момента освобождения, ждала, чтобы он приколол ее к небесам, как звезду.
Поздней ночью, среди тишины спящего дома они снова пришли в себя. Шарлотта лежала, полностью расслабившись, тогда как Тома перебирал в своем сознании слова, произнесенные ею в порыве любви — робкие, таинственные слова. Помнила ли их она сама? Теперь ее глаза отражали только свет лампы. Он подумал, что сможет взять ее снова, когда захочет, и она никогда не сможет сопротивляться ему. Теперь он знал это. Он был ее властелином, и это чувство должно было бы сделать его счастливым, но почему-то этого не произошло.
Сидя среди разбросанных диванных подушек, Шарлотта дотронулась до его щеки и сказала, что он должен поскорее уйти, пока еще темно и никто не сможет его увидеть. Люди так быстро разносят сплетни.
Тома не ответил. Краем глаза он наблюдал за ней. Он знал, как ценит она престиж благородной вдовы, как стремится сохранить свою репутацию добропорядочной женщины в глазах окружающих. Защищенная вдовьей траурной одеждой и лицемерной скорбью, она создала себе в обществе безопасное положение, недосягаемое доя любопытных глаз, тогда как под маской респектабельности, как двухлетний ребенок, наслаждалась новообретенной свободой.
— Безбрежное величие вашей вдовьей скорби… — пробормотал он.
— Что это такое? — спросила Шарлотта.
— Цитата из Бодлера. Она не была предназначена для тебя.
Она подумала, не смеется ли он над ней.
— Но ты сказал это мне.
— Да. Ты вдова, не так ли, а что до скорбного величия…
Она не знала, как отнестись к его фразе. Что это — ободрение или осуждение?
Он встал и начал одеваться безо всяких комментариев по поводу своего поспешного ухода. Шарлотта выглядела удивленной и обескураженной.
— Останься ненадолго. Тебе нет необходимости так торопиться.
— Спасибо, — сказал он, слегка подталкивая ее ногу кончиками пальцев своей ноги, — но я уже не голоден.
— Ты страшный человек. Ненавижу тебя.
Он одевался, не глядя на нее. Шарлотта не любила, когда он одевался у нее на глазах. Она также не любила, когда ее оставляли одну. Он надел куртку, которая внезапно сделала его чужим для нее, как если бы он облачился в средневековые доспехи; впечатление это только усиливалось оттого, что она по-прежнему лежала обнаженная среди подушек.