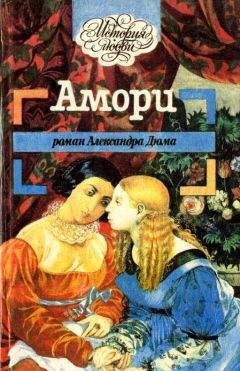— Но и очень редко, увы! — ответила Мадлен.
— То, что вы говорите, не отличается скромностью, — заметил я.
— Совсем нет, — возразила она, — я хотела бы, чтобы мой будущий супруг имел достоинства, подобные тем, какие вы хотите найти у вашей жены: элегантность, преданность, благородство.
— О, Мадлен, — воскликнул я, — вам придется искать слишком долго.
— Не переоценивайте себя, Амори, — засмеялась Мадлен, — и давайте продолжим.
— О, Боже мой, — продолжил я, — я могу добавить только два-три второстепенных желания; не покажется ли вам детским капризом, если я захочу, чтобы она тоже была из аристократической семьи?
— Вы совершенно правы, Амори, и мой отец, соединяющий в себе благородство происхождения и талант, мог бы изложить для подтверждения вашего желания (если он когда-либо услышит о нем) целую социальную теорию, к которой я присоединяюсь инстинктивно, не слишком ее понимая, я желаю выйти замуж за знатного человека.
— И, наконец, — сказал я, — хотя, Боже упаси! — я совсем не жаден, я бы хотел в интересах нашего морального равенства, чтобы избавить нас от неприятных мыслей, касающихся денег, чтобы моя избранница тоже была богата. Что вы думаете об этом, Мадлен?
— Вы правы, Амори, и хотя я совсем не думала об этом потому что моего состояния достаточно для двоих, я согласна с вами.
— Остается только узнать одно!
— Что?
— Когда я найду придуманную мной фею и полюблю ее, как узнать, любит ли она меня?
— Разве можно не полюбить вас, Амори?
— Как! Вы можете убедить меня в этом?
— Конечно, Амори, я отвечаю вместо нее. Но полюбит ли меня он?
— Он будет вас обожать, уверяю вас.
— Итак, — сказала Мадлен, — перейдем от фантазий к реальности, поищем вокруг нас, среди тех, кого мы знаем. Видите ли вы кого-нибудь, кто отвечает нашим требованиям, а я…
Она вдруг замолчала и покраснела.
Мы молча смотрели друг на друга, и истина начала проявляться в наших разгоряченных головах.
Я пристально смотрел в глаза Мадлен и повторял, как бы спрашивая самого себя:
— Любимая подруга, знакомая с детства…
— Друг, в сердце которого я могла бы читать, как в своем, — сказала Мадлен.
— Нежная, красивая, умная…
— Элегантный, щедрый, благородный…
— Богатая и знатная…
— Знатный и богатый…
— Но это ваши совершенства, Мадлен.
— Это ваши достоинства, Амори.
— О! — воскликнул я с бьющимся сердцем, — если бы такая женщина, как вы, полюбила меня!
— Бог мой! — сказала, бледнея, Мадлен. — Разве вы когда-нибудь думали обо мне!
— Мадлен!
— Амори!
— Я люблю вас, Мадлен!
— Амори, я люблю вас!
Небо и наши души просветлели при этом нежном восклицании, мы ясно прочли любовь в наших сердцах.
Я напрасно коснулся этих воспоминаний, Антуанетта, они приятны, но слишком терзают меня.
Ваше следующее письмо отправляйте в Кёльн. Я напишу вам оттуда.
Прощайте, сестра моя. Любите меня немного и жалейте.
Ваш брат Амори».
— Странно, — сказал Амори, запечатав письмо и мысленно перечитывая написанное, — среди всех знакомых женщин Антуанетта — теперь единственная в мире, которая отвечает моим прежним мечтам, если бы… если бы эти мечты не умерли вместе с Мадлен; Антуанетта — тоже подруга детства; нежная, красивая, умная, богатая и знатная.
— Правда, — добавил он меланхолично, — я не люблю Антуанетту, а она не любит меня.
Антуанетта — Амори
«5 ноября.
Я еще раз видела дядю, Амори, я провела с ним еще один день, похожий на первый, увидела те же признаки продолжающегося упадка сил, сказала и услышала почти те же слова. Я не могу рассказывать о нем ничего нового.
О себе тоже, Амори.
Вы просите, чтобы я писала о себе. Благодарю вас за вашу доброту. Боже мой, а что сказать! Мои мысли слышит и судит только Бог, мои дела слишком ничтожны и скучны, клянусь вам.
Мои дни наполнены заботами по хозяйству, вышиванием и игрой на рояле.
Иногда визиты прежних друзей господина д'Авриньи прерывают монотонность этих занятий.
Но я слышу с удовольствием только два имени. Первое — имя господина де Менжи, потому что граф и его жена любят меня и относятся ко мне, как к дочери.
Другое, сознаюсь вам, Амори, — имя вашего друга Филиппа Оврэ.
Да, он единственный гость младше шестидесяти лет. Конечно, я принимаю его в присутствии миссис Браун. Чем он заслужил такую привилегию? Уж, конечно, не нудным, томным разговором, который убивает своей скукой.
Но он ваш друг, брат мой.
Впрочем, он много о вас не говорит, но я не упускаю случая побеседовать с человеком, который вас знает.
Он приходит, здоровается, садится, и, если у меня кто-нибудь есть, он хранит задумчивое молчание, довольствуясь тем, что смотрит с настойчивостью, начинающей стеснять.
Если я одна с миссис Браун, он смелеет, но, должна признать, его смелость не идет дальше повторения нескольких фраз, позволяющих мне вести разговор, и вы понимаете, Амори, мы говорим о Мадлен или о вас.
В конце концов почему я должна что-то скрывать от такого благородного и нежного сердца, как ваше? Душа нуждается в привязанности, как грудь в глотке воздуха, а вы — теплое воспоминание из моего прошлого и, пожалуй, единственная привязанность в будущем.
Должна сознаться вам, Амори, одиночество угнетает меня, и я наивно жалуюсь вам на это, потому что я никогда не умела лукавить ни с другими, ни с собой; может быть, это плохо, но мне хочется отвлечься, выйти на улицу, прогуляться по солнечной дорожке, увидеть людей… жить наконец…
Мне холодно и немного страшно в этих просторных комнатах, и когда я оказываюсь наедине с мраморными бюстами и неподвижными портретами, появляется прежняя Антуанетта. Увы, я боюсь се!
Присутствие молчаливого и созерцательного Филиппа дает мне то преимущество, что я подшучиваю и смеюсь над ним про себя, когда он здесь, и вместе с миссис Браун, когда он уходит… Я не могу его уважать: он слишком…
Ругайте, друг мой, ругайте меня сильнее за эти насмешливые замечания, какие я позволяю себе по отношению к человеку, к которому вы, может быть, испытываете привязанность…
Ругайте меня, Амори, потому что вы один можете, если захотите, исправить мои недостатки.
Но я хотела бы говорить не о нем, а о вас, Амори. Какое у вас настроение? О чем вы думаете? Что чувствуете?
Мое положение между вами и дядей очень печально. Я чувствую, что напугана и подавлена вашим двойным отчаянием…
Доверьтесь мне, Амори, не оставляйте меня наедине с собой. Имейте снисхождение к слабому, испуганному, плачущему существу.