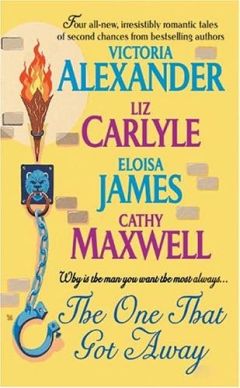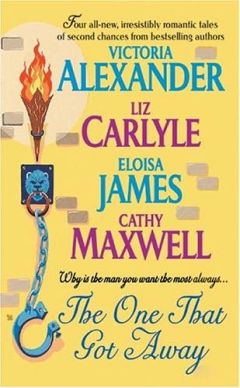— Тридцать четыре? — покачав головой, переспросил Вильерс. — Тридцать четыре? И что, ты решил, что это подходящий возраст для болезни сердца?
— Отец умер, когда ему было тридцать четыре, — проговорил Элайджа, снова откидывая голову на спинку стула и поднимая глаза к потолку. — Сердце подвело, — пояснил он. — Я надеялся, что его участь меня минует, но, кажется, надеялся напрасно: у меня то и дело случаются такие вот небольшие приступы. Не вижу причин обманывать себя.
— Святой Господь!
— Но видно, пока еще рано, — продолжил Элайджа, на губах которого заиграла его чудесная полуулыбка. Он покачал головой. — Впрочем, добавить мне нечего, Лео.
Вильерс терпеть не мог, когда его называли Леопольдом. Он привык, чтобы его называли только Вильерсом, да, собственно, никто, кроме Элайджи, по-другому к нему и не обращался. Звучание собственного имени лишало его равновесия, словно двадцать лет вмиг исчезали.
— Ничего слышать не хочу, — заявил он. Слова застревали у него в горле. — Ты говорил с доктором?
Элайджа пожал плечами:
— Не вижу в этом необходимости.
— Но ты же потерял сознание!
Элайджа кивнул.
— Черт возьми!
— Да.
— Я пытался соблазнить твою жену, а ты не говорил мне ни слова.
Элайджа улыбнулся.
— А что бы это изменило? — пожал он плечами.
— Да весь мир! — отозвался Вильерс. Звук собственного голоса раздражал его, поэтому он встал, отошел к окну и невидящим взором уставился во двор.
— Не понимаю, как это было бы возможно, — промолвил Элайджа. — Ведь мы с тобой вечно спорили из-за женщин.
— Ну да, — усмехнулся Вильерс, тщетно пытаясь взять себя в руки.
— Да ты извел меня этими спорами, когда у тебя была лихорадка, — сказал Бомон. — Ты говорил мне, что у меня есть любовница, собака и Джема. Я ничего не понимал, потому что собака к тому времени давно умерла. Но мне было вполне понятно, почему ты жаждешь заполучить Джемму.
Вильерс повернулся к нему. Элайджа по-прежнему сидел, глядя на него с тем терпеливым и вежливым любопытством, которое прославило его на весь парламент.
— Черт возьми, разве ты не сердишься? — спросил он.
— Из-за того, что ты позволил моей старой собаке сдохнуть, пока сам спасал мне жизнь? — Элайджа приподнял брови. — Я сердился, когда был шестнадцатилетним глупцом.
— Да я не об этом… Ты не сердишься на то, что тебя подводит сердце?
Элайджа молчал.
Наконец Вильерс добавил:
— Извини за то, что твоя собака умерла.
— Она была для меня всем и очень много для меня значила.
Вильерс резко дернулся.
— Кроме тебя, разумеется, — добавил Элайджа, поднимая на него глаза. — Ты был моим лучшим другом, а я украл у тебя любовницу и оттолкнул тебя, потому что ты был настолько невыносим, что спас мне жизнь на реке, но не сумел также спасти и мою собаку.
— Мы оба были глупцами, — пробормотал Вильерс.
— В жизни есть всего несколько вещей, которыми я дорожу, и одну из них я выбросил. Потом я увлекся работой в парламенте, мне вскружила голову сила власти, и я упустил собственную жену. Одним словом, я даром терял годы, так что ты был совершенно прав, когда назвал меня глупцом.
— Я больше никогда близко не подойду к Джемме, — пообещал Вильерс. — Поверь мне, я и не думал мстить. Это всего лишь…
— Это Джемма, — просто сказал Элайджа.
— Да! Ей известно, что ты болен?
— Нет. И она не должна об этом узнать.
— Это несправедливо.
— В жизни вообще нет справедливости, — мрачным тоном проговорил Элайджа. — Я уйду независимо оттого, будет у нее время переживать и бояться моей смерти, или нет. Поэтому я хочу, чтобы то время, которое нам еще отпущено, не было омрачено горем.
— Разумеется, — кивнул Вильерс, проклиная себя за то, что так долго пытался соблазнить Джемму.
— Я, знаешь ли, все равно выигрываю. — На лице Элайджи снова засияла его прекрасная улыбка. Именно она не раз помогала ему одерживать победу в многочисленных словесных баталиях в парламенте. Именно она завоевала сердце сердитого и уродливого молодого герцога по имени Вильерс, когда им обоим было по девять лет. — Джемма собирается отказаться от последнего матча вашей игры, когда вы встретитесь.
— Да, ты выигрываешь, — согласился Вильерс. И повторил: — Выигрываешь…
— Я всегда так медлил, так тщательно просчитывал ходы, — сказал Элайджа. — И так много времени потратил даром. Я спланировал все как крупную, самую крупную кампанию в жизни. И ты тоже принимал в ней участие, Лео.
— Я…
— Мне была нужна стоящая оппозиция, Лео, — продолжал Бомон. — И ты обеспечил меня ею.
Вильерс снова сел напротив Элайджи.
— Ты должен ей сказать, — настойчиво произнес он. — Как часто у тебя бывают такие приступы?
— О, примерно раз в неделю или что-то вроде того, — ответил Элайджа. — В последнее время чаще.
— Ты представляешь себе, сколько примерно времени у тебя осталось?
Элайджа покачал головой.
— Не желаю этого знать, — сказал он.
— Я ухожу, — вымолвил Вильерс. — Господи, я…
— Не уходи, — попросил Элайджа. — Я хочу, чтобы ты играл со мной в шахматы. Время от времени.
— Это для меня большая честь.
Наступила тишина. Не будь они знатными британскими вельможами, они могли бы и обняться. Возможно, они даже всплакнули бы. Сказали бы что-то о любви, дружбе, печали… Но британским вельможам не пристало говорить о таких вещах: когда их глаза встречались, они и без слов видели в них все. Мальчишескую дружбу, детские потасовки, удары, которые наносили друг другу.
— Я больше никогда к ней не подойду, — еще раз пообещал Вильерс. Его слова звучали как клятва.
— Ты должен.
— Нет…
Элайджа улыбнулся ему, но его глаза были опущены.
— Ты должен быть рядом с ней, Лео. Я хочу знать, что так оно и будет.
— Ты хочешь, чтобы я продолжал волочиться за ней, но для чего?..
Иногда даже британский джентльмен чувствует, как печаль болезненно сжимает ему горло. В такие мгновения он подходит к окну и смотрит в сад, просыпающийся после зимы.
Если только он не подумает, что это не по-мужски.
Но потом, будучи англичанином, он обязательно повернется и увидит своего старинного друга, который сидит на прежнем месте и ждет. Тогда он раскроет шахматную доску и начнет расставлять фигуры.
Вдовий дом 3 марта 1784 годаКогда карета с вдовствующей герцогиней отъехала от усадьбы, Исидора направилась к дому с одной мыслью. Она — настоящая дурочка. Да, возможно, Симеон ее не любит, но он принадлежит ей. И она не допустит, чтобы он оставался в одиночестве в своем большом доме, полном отвратительного зловония. Симеон мог бы научиться любить ее. Исидора вспомнила, как ловко он развернулся и нанес удары стражникам, и, кажется, она поняла, какое чувство появилось в ее сердце. Она на полпути к тому, чтобы безнадежно влюбиться в Симеона по тем же причинам, которые заставляли вдовствующую герцогиню презирать его. И эти причины — сила и уникальность.