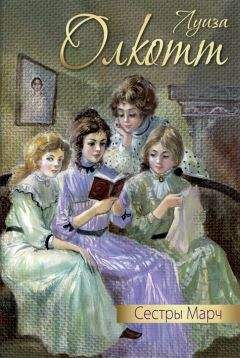может не успеть добраться до дома и не застать младшую дочь в живых. Возможно, он вовсе не рискнет отправиться в путешествие без денег и практически без еды.
Но мама сказала, что они все равно должны попытаться. Вернуть отца домой могло лишь чудо, но если это спасет Эми, если, увидев его рядом с ней, она воспрянет духом, попытка бы того стоила.
В течение нескольких ужасных дней они прождали ответа, сомневаясь, говорить об этом Эми или нет. Ускорит ли это выздоровление? Снег еще не выпал, потому поезда ходили, почта доставлялась, хоть и с перебоями, и дороги оставались проходимыми.
Минуло четыре дня, потом пять. Эми большую часть времени спала и кашляла. Они кормили ее, когда у нее появлялись силы поесть, меняли измокшие ночные рубашки и простыни, следили, чтобы в комнате оставалось тепло, пусть и видели, как мало-помалу она от них ускользает.
Джо смотрела на дорогу с таким напряжением, которого сама от себя не ожидала. Отец должен был приехать. Обязан. Все остальные обстоятельства были забыты.
Ее переполнял гнев.
Как несправедливо, что Эми заболела, пока их семья продолжала по мере своих возможностей помогать людям, которым в жизни повезло еще меньше!
Что они не видели отца годами, сперва во время войны, а затем и во время Реконструкции.
Что у них не было денег отцу на билет, или на врачей для Эми, или на что-нибудь другое, что сделало бы ее болезнь хоть чуточку терпимее.
Что мистер Лоренс уехал, и некому было помочь.
Не было справедливости в мире, где такие, как Эми, заболевали и умирали из-за бедности, в то время как люди, подобные леди Хэрриет, процветали. Где доброта и сострадание наказывались, а наглость вознаграждалась. Абсолютно никакой справедливости.
Джо начинала осознавать, что существует вид гнева, который выжигает все человечное в человеке, который зарождается в мозгу и дезориентирует тело, пронизывая мышцы и кости.
Какой же она чувствовала себя… разъяренной.
Преданной.
Всеми покинутой.
Ей хотелось поведать кому-нибудь о том, какой одинокой и преданной она себя чувствует, причем во всех подробностях, но рассказывать было некому. Мама и без того едва справлялась с навалившимися на нее заботами, а у Мег теперь был Джон Брук.
Джо казалось, что между ней и сестрой выросла некая мембрана, что-то похожее на тончайшее оконное стекло, подернутое инеем. Сквозь которое просматривалась общая картина, но не различались детали. И в конце концов, оставалось лишь призрачное отражение того образа, который раньше Джо видела со всей ясностью.
Скоро она потеряет и Мег. Та сейчас принадлежала Джону, а он – ей. Если Мег перед кем и выплеснет все, что скопилось у нее на сердце, то перед ним.
На один короткий миг Джо возненавидела любовь. Потому что любовь – это предательство. Без нее не было бы потерь. Возможно, без нее вообще ничего не было бы, но главное без потерь.
В тот самый момент Джо казалось, что если встанет выбор между любовью и пустотой – без чувств, боли, понимания – стоит выбрать второе.
Любовь – это безумие, глупость, безрассудство. Любовь – проблема, но ее потеря была еще хуже. Любовь лишала смысла все нормальное и разумное.
Она заставила Мег почти отказаться от достойного, любящего человека.
Заставила маму отдавать весь их хлеб Хуммелям и целую вечность ждать своего мужа-капеллана, уже превратившегося в призрак.
Заставила Эми и Поппет общаться на только им понятном языке, – языке когда-то потерявшихся и вновь нашедших друг друга близнецов, выброшенных вместе в море какой-то чуждой вселенной.
Делала знакомые вещи ужасными, а ужасные – знакомыми.
Опаляла крылья мотылькам и принуждала их бросаться с головой в пламя.
Не позволяла от себя убежать, выздороветь, не имела счастливого конца. Любишь и теряешь. Сердце бьется и оказывается все в синяках, что его становится не узнать. Любовь можно чувствовать, стараться не замечать, с нетерпением ждать ее, но удержать – невозможно.
Не имеет значения как или даже почему. Любит он тебя или нет. Умрет она или нет. Уехал бы он или нет.
В итоге, ты всегда остаешься самым одиноким существом на свете, кем бы ты ни был. Потому что такова любовь – таков край этой пропасти – приходит она или уходит. И больше ничего нет.
Только тени.
Джо задремала и не услышала стук в дверь.
– Эй! – крикнул чей-то голос. – Есть кто-нибудь дома?
Испуганная, она бросилась к двери и распахнула ее. Снаружи было темно, шел дождь, и на мгновение ей показалось, что темная фигура на пороге – это отец, в синей Союзной форме, вернулся домой, как по волшебству услышав ее зов.
Но на его лице она не заметила бороды. А волосы были темными, не седыми.
Это был не отец. Это – Джон Брук, вернувшийся из Бостона в своем обычном коричневом сюртуке.
Рядом с ним стоял Лори с жалким видом и в промокших шляпе и пальто.
– Ах, Джо, – проговорил он. – Я приехал сразу, как только узнал.
Теодор Лоренс возвратился домой.
После того как оба молодых мужчины вошли в дом, их верхняя одежда была развешена у огня сушиться, – после удивленных приветствий, объятий, и (в случае Мег и Брука) тайном поцелуе в чулане, – Джо отвела их наверх, к Эми, которая обрадовалась при виде Лори и немного взбодрилась. Она сумела приподняться в постели и шептала, как же рада его приезду.
– Ты… стал… другой, – прохрипела Эми, – счастливее, чем… был… в последний раз.
– Да, так и есть, – ответил Лори.
– Не надо разговаривать, милая, – тихонько попросила Джо, поправляя сестре подушку. – Береги силы.
– Правильно. – Лори сжал ее бледную маленькую ладошку. – Мы будем говорить, а ты слушай.
Эми слабо улыбнулась. Лори протянул ей купленную в Бостоне куклу, дорогую, с фарфоровым личиком и в красивом платьице из золотой парчи. Эми, еще никогда не получавшая такого роскошного подарка, прижала ее к себе.
– Она будет… моей… самой любимой, – сказала она.
Джо чуть не расплакалась. Но тут у Эми закатились глаза, и она обмякла: потеряла сознание от истощения или от радости, а может, и от того и другого.
Лори испуганно воскликнул. Встревоженная Джо спешно вывела его из комнаты больной и велела спуститься вниз, пока мама и Ханна суетились, бросившись за нюхательной солью и дополнительной порцией камфоры. Куклу усадили на прикроватный столик в надежде, что Эми порадуется подарку позже, когда – и если – ей станет лучше.
Все четверо дожидались внизу: девушки дрожали от страха, что мама вот-вот спустится