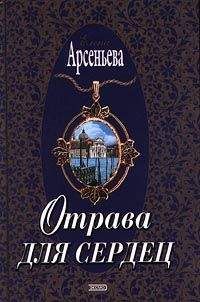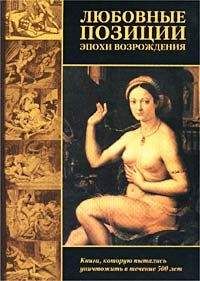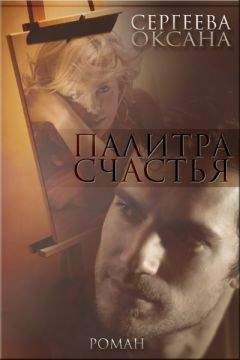По телу Гвидо вновь прошла судорога, а рука его тоже невольно задвигалась, как если бы он был отражением, всего лишь отражением картины наслаждения, вершившейся на его глазах. Однако это «зеркало», оказывается, имело свойство перенимать и чувства отражаемого человека, потому что, когда незнакомка начала биться и стонать, утратив власть над своим телом, Гвидо ощутил, что вся его суть как бы перетекает в напрягшуюся плоть.
В голове его все плыло, в глазах стоял туман, ласки, которым он подвергал себя, были сладостны – и все же он мечтал завершить их как можно быстрее. И они подходили к концу. Вот первая судорога опоясала чресла – Гвидо ахнул, замер, чувствуя, как наслаждение мягко обволакивает тело… но это блаженное самосозерцание прервал тихий шепот:
– Иди ко мне…
Гвидо взглянул.
Незнакомка, приподнявшись, смотрела на него своими колдовскими серебристыми глазами, и шепот ее был исполнен такой страстной мольбы, что сердце Гвидо задрожало.
Он не смог ослушаться. Он подошел к ней, и приблизился, и встал на колени меж ее широко раздвинутых бедер, и движением, прежде неведомым, но в то же время знакомым телу как бы издревле, он впустил себя в отверстое, нетерпеливо ждущее естество.
Она ахнула, схватила его за плечи, притянула к себе. Плоть его проникла в жаркие, тесные глубины, и Гвидо почудилось, словно самосветная сеть опутала его тело и душу, соединяя их. Душа его слилась с телом в едином порыве, и не только в плоти, но и в сердце отозвалось неистовое наслаждение, сотрясшее все его существо.
* * *
Он очнулся от холода, но прошло какое-то время, прежде чем удалось собрать обрывки смятенных, взорванных ощущений и понять: он лежит на каменном полу, и дрожь озноба пробирает его тело.
Гвидо приподнялся, огляделся.
Он остался один… один. Луна ушла, звездная ночь заливала все вокруг, и келью заполонила тьма. И пустота.
Можно было бы подумать, что все это было лишь сном, одним из тех видений, которых так боятся – и о которых так мечтают запертые в монастырях мужчины, ибо эти видения заменяют им реальную жизнь. Но он чувствовал – вернее, чувствовало все его тело, наполненное мучительно-сладостной болью первого Познания, – что случившееся не было бесплотным мороком. Он возлежал с женщиной – впервые в жизни! – и утратил нынче ночью девственность и непорочность.
Но не прощание навеки с тем, что его, собственно, никогда не обременяло, не тяготило, наполнило его душу тоской. Гвидо вдруг с предельной ясностью понял, что с утратой чистоты утратил единственное преимущество над Джироламо. Дух его как бы отяжелел, он больше не парил над телом, ниспосылая ему прозрение мысли – и презрение к прочей братии, ненасытно предающейся телесным удовольствиям. Напротив, он впервые понимал и оправдывал их, хотя всего лишь час назад мог бы с чистым сердцем повторить за святыми отцами церкви: «Тешить плоть свою есть тешить дьявола».
Плоть его была утешена. Ну а дьявол, надо полагать, ликовал!
То, что враг рода человеческого в единое мгновение овладел всем существом отступника, безусловно, подтверждалось крамольной мыслью, вдруг мелькнувшей у Гвидо. Он подумал о своем падении, позоре, ужаснулся им – да тут же и забыл об этом, как о вещи самой малозначащей, а задумался вот о чем. Ему приходилось слышать, будто от соития получают удовольствие не только мужчины, но и женщины. Что до него – да, да, о да! Гвидо знал: ничего подобного по силе впечатления не случалось с ним в жизни – так безраздельно, благорастворенно счастлив он еще не бывал. Но… она, она? Эта незнакомка? Что испытала она? Не потому ли покинула его, что не получила того, зачем пришла?
Эта догадка настолько уязвила мужское эго, о существовании коего Гвидо прежде вообще не подозревал, что он кинулся к окну в безумной надежде отыскать незнакомку, окликнуть ее, вернуть, предложить…
Предложить – что?
Словно бы чей-то чужой, посторонний голос произнес в мозгу Гвидо этот простой и в то же время страшный вопрос, и он схватился за голову, трезвея, начиная связно мыслить – и покрываясь ледяным потом от всех тех вопросов и ответов, которые вдруг начали его терзать.
Она не могла уйти через окно – слишком высоко, стена отвесна. Дверь по-прежнему заперта изнутри. Не сквозь стену же она прошла! Не лунный же луч ее унес! Или… или и впрямь лунный луч – как принес, так и унес?
Но нет, Гвидо любодействовал не с призраком. Он до сих пор ощущал аромат ее кожи, ее желания, а воспоминание о том, как жаркое лоно стиснуло его плоть, было столь острым и живым, что при одной только мысли об этом увядшее естество вновь начало расцветать. Она была реальной – во всяком случае, в тот миг, когда их тела сливались. А до этого? А после? Какая сила создала ее и даровала Гвидо, чтобы вознести его на вершины наслаждения, в то же время низринув в бездны унижения?
Во всяком случае, не бог. Значит… он. Дьявол! И она – дьяволица. Суккуба!
Гвидо отшатнулся, заполз на свой убогий, жесткий топчан, как бы надеясь, что смиренное благочестие десятков, а то и сотен безгрешных монахов и монахинь, спавших здесь прежде, защитит его от дьявольских козней.
Так страшно, как сейчас, ему не было никогда в жизни. Ведь, не будучи уверен в существовании бога, порою называя его в мыслях своих выдумкой человечества, тиранившего себя самого, он, естественно же, не мог не усомниться и в существовании божьего антипода! Но дьявол всегда был для него лишь дополнением выдумки о боге – так черное дополняет белое, тень – свет, смерть – жизнь… И вот он только что получил неоспоримое доказательство бытия дьяволова! Не является ли это одновременно и доказательством божьего бытия?!
Гвидо попытался поднять руку и сотворить крестное знамение, но длань словно бы окаменела и не слушалась. Это испугало бы его, не будь он уже и без того напуган сверх всякой меры.
Итак, терпение господа, который более двадцати лет слышал от Гвидо Орландини только нетерпеливые мольбы да упреки, наконец истощилось, и он решил покарать нечестивца так, как тот заслуживал. Господь просто и неопровержимо доказал Гвидо, что никогда не мог снизойти к его мольбам, ибо не заслуживал Гвидо сего снисхождения: по сути своей он был настолько слаб и порочен, что уподобился самой глупой твари от одного лишь запаха похотливой самки.
О боже… Боже! Сколько же упреков, сколько проклятий исторгала душа Гвидо, и все их впитали небеса – для того, чтобы пролиться на него огненным дождем, обрушить кару, которую он, несомненно, заслужил.
Как избежать ее? Как умилостивить бога? Как уверить в своей полной покорности?
Гвидо соскочил с топчана и распахнул крышку своего сундучка. Там, под несколькими любимыми книгами, лежала плеть – тугая, новенькая плеть, заскорузлая от крови маленького мальчика, которого жестоко избили, когда он в первый и последний раз отважился проявить непослушание воле господней и попытался бежать из монастыря. Этого мальчика звали Гвидо… Суровый воспитатель, отходивший его до полусмерти, в ярости и усталости отшвырнул плеть – да так и забыл о ней. Гвидо поднял, спрятал – и с тех пор хранил как драгоценную реликвию, ибо она являлась свидетельством того самого немилосердия божьего, в котором он черпал устои своего неверия.