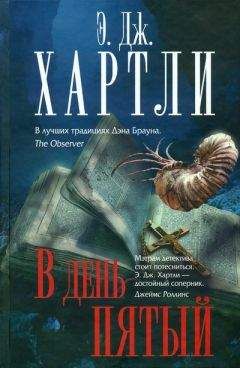Все предыдущие дни он был почти слеп. Страшно и непривычно. Мир лишился четкости, стал расплывчатым, размытым. Яркие гаммы исчезли, осталась одна пастель. Больно смотреть на свет. Неприятно ощущение во тьме. Глаза режет, выдавливает из глазниц, колет. Много слез. Но это нормально. Ему закапывают лекарство, смачивают веки, накладывают мазь — лишь бы остановить процесс ухудшения, сохранить остатки нарушенного зрения, поддержать то, что осталось. Передвигаться по этажу тяжело, даже прищурившись: отовсюду смешивается и бьет в глаза свет — уличных фонарей, ярких автомобильных и мотоциклетных фар, дневного солнца, коридорных ламп. Потому он и не встает с постели без большой необходимости: лежит, отвернувшись от окна к стене, и в упор смотрит на шершавую поверхность до первой вспышки боли. Потом закрывает веки и продолжает лежать в темноте. Себя же он четко видел в зеркале лишь на расстоянии вытянутой ладони. Смотрел и не узнавал. Когда он последний раз наблюдал за собой, следил за изменением в чертах своего же лица? За последний год оно будто вытянулось, стало жестче, появились морщинки. Короткие теперь волосы, неаккуратно обрезанные, наспех. Худая открытая шея. Щетинистые щеки и подбородок. Опаленные брови, на их месте только начинают расти новые, короткие и редкие. Обожженные веки и ресницы. Глаза будто не его. Всё это он разглядел в корректирующие очки. Теперь он будет носить их всю жизнь. Простая тонкая металлическая оправа, круглые, как блюдца, стекла. Мир вновь стал четким. Только не вернулась его красочная сочность. Сперва глаза болели. Он начинал носить очки по часу, два в сутки, затем время увеличивали. Он довольно быстро к ним привык. Предстояло бы смириться, что у него навсегда отнят тот разноцветный мир, что он любил и видел каждый день. Но смиряются отчаявшиеся. Констан же не предавался печали: он принял новый, так трагично случившийся этап в своей жизни и лишь благодарил, что у него осталось.
Он быстро шел на поправку. Хотел выйти из стен больницы раньше: первое время беспокоился о своей церкви и пастве. Служащий прихода, который однажды навестил его, передал вынесенное епископом решение: церковь закрылась до дня выздоровления Дюмеля. Соответствующую табличку повесили на запертые входные двери. Констан переживал о садике за церковью: будет ли наемный садовник присматривать за ним? Как позже оказалось, тот исправно выполнял обязанности: подмел, вырвал сорняки, почистил фонтан и промыл его трубы. Дюмель был ему благодарен, но подумал: сколько же у него самого будет дел, когда он вернется и станет готовить церковь к принятию прихожан. Нужно всё очистить от пыли, протереть сосуды, заменить потухшие свечи и много еще чего. Он сам содержал церковь в чистоте и старался не сильно утруждать работников, помогая, чем может. Он так хотел скорее остаться с Богом наедине, лицом к лицу, в своей церкви, в тишине. Сказать ему всё, что думал, честно и открыто. Здесь, в больнице, не было уголка, чтобы уединиться: вечный шум, сотни людей, страдающие от различных болезней и травм, мечущиеся от одного пациента к другому врачи… Лишь поздним вечером, когда все в палате, где он лежал, засыпали, Дюмель еще не смыкал глаз и дотрагивался под одеждой до нательного крестика, молчал, но говорил в мыслях.
В день выписки он вышел из больницы через внутренний двор с небольшой поклажей в руках: за время, проведенное здесь, ему требовалась новая сменная одежда. В сумке лежали майка, кофта и сутана, которую вряд ли можно починить: она годилась только на тряпки, изодранная, с прогоревшими дырами. Утро было пасмурным. Но солнечный белый диск стоял за тучами, высоко в небе, силясь разорвать своим светом серую непроглядность зимы. Во внутреннем дворе вдоль тропы стояли лавочки, на которых сидели, укутанные в плащи и куртки, больные. Одни курили, кто-то смеялся, что-то изображая перед друзьями. Ворота закрыты, но калитка в них нараспашку. В нее видно, как отъезжает автомобиль скорой помощи. По улице мимо ворот прошла женщина. А потом в поле зрения вошел человек в немецкой форме.
Констан почти приблизился к калитке, когда показался фашист. Что-то кольнуло его в сердце: показалось, что мужчина знаком. Сомнение превратилось в уверенность. Это был Брюннер. В длинном сером пальто, с сигаретой в пальцах, обтянутых темными кожаными перчатками. Одна рука заложена в карман. Он повернул лицо, высматривая кого-то — может быть, именно его, Дюмеля. Констан замедлил шаг и остановился, глядя в лицо Кнуту. Немец шагнул в калитку и неспешно подошел к Дюмелю, остановившись в метре от него, изучая с головы до ног.
— С выздоровлением, преподобный. — Произнес он, поднеся сигарету к губам.
Констан смотрел на него. На его раны. Заживающая ссадина на лбу. Царапина на скуле. Чуть облезшая кожа у щеки.
В голове стала складываться картинка, откуда у него могли появиться такие увечья. Но она была до того невероятной, что Дюмель не хотел в это верить. Он не ответил Кнуту, а продолжал молча смотреть ему в глаза.
Немец искал и видел в чертах Констана перемены, возрастные, эмоциональные. Пострадавшие глаза с дрожащими, припухшими веками смотрели сквозь стекла очков потемневшей местами радужкой. По взгляду Брюннер понял, что крутится в голове священника, предугадывал, какой вывод приходит ему на ум. Поэтому, чтобы подтвердить его кажущиеся сумасшедшими догадки, фашист высвободил руку из кармана и взял ею сигарету. Ладонь была перебинтована, на пальцах — облезшая кожа как от недавнего сильного ожога.
Констан коротко мотнул головой. Кнут, наоборот, едва заметно кивнул.
— Я не жду от вас благодарностей. — Брюннер посмотрел в сторону, стряхивая пепел, выдыхая дым. — Знаю, что не станете…
— Почему..? — прошептал Констан. В нем смешались растерянность и потрясение.
— Не думаю, что удовлетворитесь моим ответом, но всё-таки скажу. — Немец вновь посмотрел на него. — Я сделал это ради того, кого вы отпустили. Кто сейчас далеко.
Констан покачал головой, не сводя глаз с Кнута.
— Я никого не отпускал. Они ушли сами. Их вынудили уйти. Вы вынудили, ваша власть и армия. Я хочу жить и видеть свой прежний Париж, свою Францию. Но мне не дано этого счастья. Из-за вас.
— Поверь, Дюмель. Я тоже хочу видеть свою Германию. Не меньше тебя желаю, — произнес Брюннер задумчиво, глядя на кончик сигареты, держа ее между пальцев. — Но пока мы оба ничего не можем поделать с этим. Да… Ничего.
Между ними опять воцарилось молчание.
— Это был Юнгер? — спросил Дюмель, надеясь, что Брюннер поймет, что он имеет в виду.
Немец дернул уголком губ, на секунду отведя взор. Что, пытается придумать, как выгородить своего солдата?
— Я понимаю, что в ваших глазах он выглядит убийцей, — вздохнул Кнут. — Да, он творит плохое. Он во многом не сдержан. Зато он исполняет приказы. Хорошее качество, почти исключительное, когда в войсках на самом деле черт знает что.
— И вы его не остановите? — Дюмель приблизился к Брюннеру. — Вы наблюдаете за его коварством и зверством — и радуетесь. Вы трус. Только трусы не могут влиять на ситуацию, когда это в их силах.
Брюннер медленно покивал. Он явно не воспринял слова всерьез. Ему никто не указ. Он никого не слушает. Он — сама власть: и себе, и над другими.
— Вопрос не в том, могу ли я. Вопрос в том, а надо ли. Ты просто сам боишься Гельмута, преподобный, опасаешься.
— Мне он безразличен. Я боюсь, что он учинит намного больше вреда невинным, потому что знаю это. Потому что видел это. — Горячо произнес Констан.
Фашист усмехнулся.
— Мы на войне, Дюмель. Это выживание. Либо мы. Либо нас.
— Вы нападаете здесь, в городе, на беззащитных, людей без оружия и думаете, что они пойдут против солдат с автоматами и ножами?! — В голосе Констана прорезались злые нотки.
— Хм. А разве нет? — Словно не понимая, невинно спросил Кнут.
В следующий миг он качнулся. Его голова резко свернулась в сторону. Во рту почувствовался солоноватый привкус крови. Он не ожидал такого от Констана. Приложив ладонь в перчатке ко рту, он удивленно воззрился на Дюмеля. Тот, сжав губы, тряс рукою, сжимая и разжимая пальцы с покрасневшими костяшками. Брюннер отнял руку от лица. Кровь выступила на губах, размазалась по подбородку. На перчатке остался кровавый след.