— Ладно, — проворчала Марта, — есть у меня одна идея, нужно ему мои травки передать. Они вызовут полное онемение конечностей и помутят его рассудок, притупят чувствительность. Только вот как ему это передать?
— О, Марта, да это же прекрасная идея, он просто ничего не почувствует, даже не поймет. Я попрошу Александра Захаровича, может он согласится нам помочь?
— Странный он! Задумчиво сказала кормилица
— Кто?
— Граф. Взялся из ниоткуда, помогает тебе. Уф, что теперь думать и гадать главное, что ты на свободе, а там дальше судьба все по местам расставит.
Александр Чернышев пришел как всегда вечером, Катя уже проснулась и даже успела поужинать, после лечебных бальзамов синяки начали проходить, а на бледных щеках слегка выступил румянец. Молодость берет свое, следы страданий быстро стираются.
Граф вежливо поздоровался, а потом торжественно произнес:
— Казнь состоится завтра на рассвете. Мы поедем туда в моей карете, наблюдать будете через занавеску. Ни в коем случае не выходить из и не высовываться в окно. Не дай бог кто — то узнает. Полиция ищет вас по всему городу. Я тут привез кое- что из вещей, побывал в вашем доме. Рискнул купить шляпку с густой вуалью. Если не в вашем вкусе, не обессудьте, не было времени выбирать.
Девушка улыбнулась ему.
— Ну что вы, спасибо за заботу. Шляпка с вуалью, конечно же мне пригодится. Присядьте, граф. Можно попросить слугу принести вам чай. Мы уже позавтракали.
— Я очень тороплюсь, сударыня. У меня, к сожалению, еще много дел. Вот здесь все, что вам может пригодится завтра утром.
Он положил сверток на стол, вновь взял ее руку в свою.
— Вам удается быть красавицей даже сейчас, я восхищен вами.
— Сударь, я хотела бы вас попросить сделать для меня еще кое — что, не сочтите мою просьбу дерзкой.
— Все что угодно, Екатерина Павловна, я готов служить вам.
Катя немного растерялась, не зная как попросить Александра об услуге, но все же решилась.
— Я слышала, что после пыток люди испытывают страшные мучения, а страх перед казнью может превратить их в затравленное животное. Смею просить вас о милости. Вы можете найти способ передать моему мужу одно лекарство?
Девушка протянула ему маленький флакончик. Граф взял пузырек из ее рук и покрутил на свету, силясь угадать его содержимое.
— Что это? — Спросил он.
— Настойка из сон — травы. Человек, который ее примет, уснет, или будет оставаться одурманенным, здесь так же добавлены травки притупляющие боль. — Сказала Марта.
Граф ничего не ответил. Он сунул флакончик в карман.
— Я поражен вашему великодушию, сударыня. Вы — ангел! Я передам это вашему мужу, не переживайте.
С этими словами он откланялся и удалился.
Утро тринадцатого декабря выдалось на редкость солнечным. К Обжорному ряду стекались толпы людей, эшафот был возведен днем ранее. Толпа собралась самая разношерстная, тут были и бояре и холопы и дворяне. Зрелище редкое, со времени начала правления Екатерины Второй не производились публичные экзекуции.
Прошло утро, пора уже было начинать казнь, весь Петербург теснился в Обжорном ряду, проталкиваясь в толпе дворяне устраивались на крышах карет, а девки и мужики — на водовозных бочках, дети, как всегда в таких случаях, плясали на плечах у родителей и размахивали разноцветными леденцами на палочках, На крышах домов примостились подмастерья в кирзовых сапогах и с самодельными трубками, в непроходимой толпе можно было потеряться. Головы людей торчали из окон и дверей, люди сидели на заборах и деревья.
Маляры в спецовках, в штанах из черной кожи, макали кисти в цинковое ведро с масляной краской — докрашивали последние ступеньки лестницы.
Мировича и Потоцких привезли накануне, чтобы не было паники, лошадей выпрягли и увели, оглобли опустились на землю; знали или не знали люди, что там, в карете?
Эшафот был покрашен самой дорогой краской, золотой, солнце слепило, и краска слепила. Землю вокруг эшафота посыпали песком, тоже золотым почему-то, прибалтийским, как будто предстояла не казнь, а маскарад или премьера спектакля. По песку порхали воробьи и вороны, они что-то искали в золотых песчинках..
Палач поднялся на помост первым, он шёл балансируя, чтобы не поскользнуться на свежей краске, на лесенке появились тёмные пятна от его тяжёлых подошв, палач был одет в чёрно-красный балахон с капюшоном, — прорези для глаз, а у капюшона заячьи уши — тоже своего рода бутафория. Палач, как ружьё, нёс на плече большой блестящий топор; кто выковал такой топор, какой инженер мучился над этим уникальным инструментом, или разыскивали в арсенале Анны Иоанновны, ведь после ее смерти не было ни одной публичной казни — двадцать два года.
Люди в толпе шептались, что казнь врядли состоится — слишком похоже на фарс.
А потом произошло следующее.
Карета шатнулась. Разлетелась кожаная дверца с цветочками. С подножки кареты на лестницу прыгнул офицер — блеснули пуговицы, — упал на ступеньки, вскарабкался по-собачьи наверх, на коленях, на ладонях, встал на помосте во весь рост, перекрестился быстро-быстро, махнул палачу — и палач, как послушная машина, опустил топор.
Ни вздоха. Никто не осмыслил, не сообразил. Увидели: наверху, в воздухе, блеснула ладонь, измазанная золотом, и большой топор.
Потом брызнула кровь, потом хлынула кровь, блестящие брёвна всё чернели и чернели, народ смотрел во все глаза — где голова? А голова упала с эшафота и покатилась по песку, переворачиваясь, она уже лежала (с чистым, не измазанным лицом), а из горла, снизу, на песок выливалась кровь, и только кудри чуть-чуть пошевеливались и поблёскивали на ярком декабрьском солнце. Мировича казнили.
Засуетились солдаты, палач стоял надо всеми, на помосте, ни на кого не смотрел, в капюшоне, с топором на плече. Еще два приговоренных ждали своей горькой участи.
Григорий Потоцкий вышел из кареты с гордо поднятой головой и спокойно прошел к эшафоту. Он даже не был бледен, на его лице играл румянец, ни капли страха не читалось в его глазах. Одет Потоцкий был в шинель голубого цвета. Нарядную, расшитую золотом, словно на параде. Когда прочли ему сентенцию, он глубоко вздохнул, а потом громко сказал, что благодарен, ничего лишнего не возвели на него в приговоре, но вины он своей не признает. Люди закричали что — то зашумели, он обвел взглядом разбушевавшуюся толпу, словно выискивая кого — то глазами, затем повернулся к палачу. Сняв с шеи крест с мощами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его. Подал полицмейстеру, присутствующему при казни, записку об остающемся своем имении. Снял с руки перстень, подал его палачу, убедительно прося его как можно удачнее исполнить свое дело и не мучить его. Попросил сказать последнее слово, ему разрешили. Мужчина вновь посмотрел на людей и громко произнес
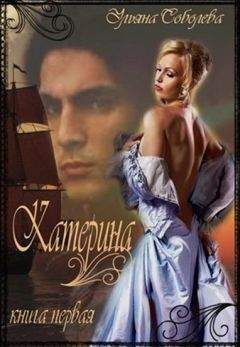
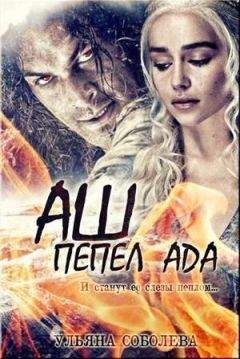



![Ульяна Соболева - Любовь - яд [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/2981/2981.jpg)