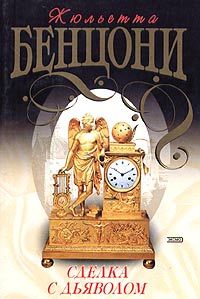От нескончаемой беготни по улицам Гортензия так устала, что ей требовалось собрать все свое мужество для того, чтобы продолжать путь. У Сены и в самом деле стоял невообразимый шум. Проход по Новому мосту был закрыт, там хозяйничали линейные полки. Стреляли со всех сторон, и из серых клубов дыма, как привидения, выступали гигантские здания Лувра и Тюильри.
На набережной Гранд-Огюстен собралась толпа, однако еще можно было пройти. Присев на минуту на каменную тумбу у фонтана, чтобы перевести дух, Гортензия пошла дальше. Никто на нее и не смотрел. На набережной женщин было почти столько же, сколько мужчин. Ее чуть было не потащили за собой студенты, ворвавшиеся на мост святого Михаила с криками «Да здравствует император!», «Да здравствует Наполеон Второй!». Она вырвалась, но тут же была подхвачена толпой орущих рабочих, мужчин и женщин. Ее увлекли за собой к Сите, и, уже сама не зная каким образом, она вдруг оказалась на набережной Лепелетье в центре плотной людской массы, двигавшейся под палящим солнцем к Ратуше. Гортензия не сразу сообразила, что находится в самом центре событий, только видела, что попала прямо в ад. Свистели пули, повсюду распространялся удушливый запах пороха, смешанный с запахом сотен потных тел, обступивших ее со всех сторон. Шляпа слетела у нее с головы и болталась сзади, сдавливая лентами горло. Волосы рассыпались по плечам. Кто-то неуклюже толкнул ее, выворачивая руку: она вскрикнула от боли. Вокруг она видела разгоряченные почерневшие лица со светлыми полосками от пота, по некоторым пурпурными ручьями струилась кровь.
В ужасе она хотела убежать, спрятаться, но не смогла: людской поток уже нес ее на Гревскую площадь, к Ратуше с остроконечной крышей, сверкающей на солнце сквозь завесу дыма. Вдруг толпа взревела, оглушая ее многоголосым эхом: это над зданием Ратуши в тот самый миг, когда большой колокол собора Парижской Богоматери начал бить в набат над обезумевшим городом, взвился трехцветный флаг. И почти тотчас же другой такой же флаг появился на северной башне собора… Воодушевление толпы достигло апогея. Позабыв об опасности, невольные спутники Гортензии, как разъяренные быки, ринулись на красные с золотом мундиры нескольких швейцарцев, которые тут же исчезли в толпе. Откуда-то появился взвод драгун, зловеще отсвечивая в клубах дыма медными касками с черными султанами. С саблями наголо драгуны понеслись на людей, шедших с набережной, чтобы не дать им просочиться на площадь. Гортензия в изнеможении тоже бежала вместе с толпой. Сил у нее совсем не осталось, она держалась на ногах лишь потому, что ее со всех сторон подпирали людские тела. Еще минута, и она не выдержит, скользнет вниз, на мостовую, и будет раздавлена наседавшими сзади или копытами лошадей.
Она уже падала, как вдруг чья-то сильная рука схватила ее под локоть и потащила к лестнице, идущей вниз, к берегу реки.
– Ну, наконец-то я вас поймал! Что вы тут делаете?
Она так устала, что даже почти не удивилась, узнав Эжена Делакруа, хотя при виде знакомого лица чуть оживилась и даже попыталась улыбнуться.
– Опять вы? Вы что, подрядились спасать меня всякий раз, когда мне будет грозить беда? Ну просто ангел, посланный прямо с небес, да и только!
– Про себя не скажу, а вот вы настоящая безумица! Куда это вы собрались?
– В Сен-Манде. Хотела поехать к сыну. Он там в опасности.
– В опасности? В Сен-Манде? Да вы с ума сошли!
Она рассказала о пороховом складе, о страхах вдовы и о своей собственной тревоге. Если в Венсене будет взрыв, ребенок, живущий неподалеку, тоже может погибнуть. Однако художник недоуменно пожал плечами и сказал без всяких церемоний:
– Каких только небылиц не навыдумывают люди в такое время! И речи быть не могло о том, чтобы идти на Венсен, его слишком хорошо охраняют. Народ и так добыл достаточно пороха, чтобы продержаться восемь дней. Так что откажитесь от своей экспедиции! Да и все равно вам не пройти дальше площади Бастилии, где стоит целый полк, и Сент-Антуанского предместья, откуда на этот полк пошли в атаку по проторенному пути… Ну что мне теперь с вами делать?
Он, казалось, был вне себя. Ничего не осталось от денди, некогда посещавшего салон графини Морозини. Без пиджака, с закатанными выше локтей рукавами, оголив свои нервные руки, со следами пороха на лице и припорошенными пылью спутанными волосами, с револьвером за поясом, Делакруа походил на завзятого бунтовщика. Только с одним отличием: под мышкой он сжимал свой неизменный блокнот для эскизов.
Рядом с ними прогремело сразу несколько выстрелов, и это избавило Гортензию от необходимости отвечать на его вопрос. В то же время с лестницы к ним скатился еще какой-то молодой человек в светло-бежевом, когда-то, видимо, элегантном костюме. Теперь костюму был нанесен значительный урон.
– Я видел, как ты спускался сюда, – обратился он к Делакруа. – Здесь нельзя оставаться. Идут уланы, они будут отбивать подвесной мост, – добавил он, указав на переход, соединивший Гревскую площадь и Сите. – Тебе на голову могут посыпаться трупы.
– Хуже всего, что отсюда я ничего не увижу, – проворчал художник. – Пойдем наверх. А вы оставайтесь тут! – приказал он Гортензии. – Здесь все-таки спокойнее, чем наверху, и, если меня не убьют, я приду за вами.
– Не беспокойся, – с любезной улыбкой откликнулся человек в бежевом рединготе. – Если тебя убьют, я с большим удовольствием позабочусь о даме. Меня зовут Эжен Лами, и…
Но слова его потонули в страшном шуме. Над их головами, перекрывая грохот выстрелов, в толпе закричали: «Долой Бурбонов!» Призыв подхватили, и все стали громко скандировать: «Долой! Долой!» Шум был поистине оглушительный. В надежде увидеть, что там происходит, Делакруа бросился вверх по каменной лестнице. Вслед за ним, перепрыгивая через ступеньки, понесся его приятель.
Но долго Гортензии стоять на берегу одной не пришлось. Жестокий бой, вспыхнувший на подвесном мосту, где войска дважды отбрасывали назад восставших, заставил людей отступить на лестницы. Некоторые падали со ступеней без перил, получая сильные ушибы. Вскоре неподалеку под руководством врача возник импровизированный госпиталь, и Гортензия отправилась туда помогать…
Врач был немолод, но дело свое знал хорошо. Его руки с необычайной осторожностью касались ран. Гортензии он приказал подносить воду раненым, мучимым страшной жаждой под палящим солнцем. Он дал ей неизвестно откуда взявшийся горшок и ковшик, и сотни раз она бегала к фонтану на берегу наполнять их. Раненые с благодарностью принимали воду из ее рук. Она поила их и отмывала покрытые копотью лица. Усталость как рукой сняло. Гортензия была горда тем, что стала всем нужна. Сознание своей, пусть косвенной, причастности к боям за свободу прибавляло ей сил. Как-то, когда она в очередной раз смачивала водой окровавленное лицо раненого и промывала его тампоном из лоскута, вырванного из нижней юбки, от которой оставались одни лохмотья, врач на минуту задержался возле нее.