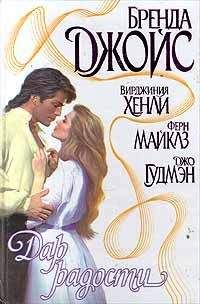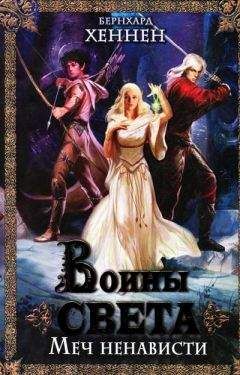При всём моём стеснении я засмеялась и села на стул, который мне придвинул Дагоберт… Шарлотта оказалась права — спор утих, как будто его и вовсе не было, и когда я подняла глаза, то увидела, что бухгалтер исчезает в темноте, из которой мы только что вышли… Господин Клаудиус всё ещё стоял возле пальмы — мой взгляд робко метнулся к нему — разве у него на лбу нет метки? Ведь он убил человека! — Но я увидела только серьёзные синие глаза, сверху вниз смотревшие на меня, и испуганно втянула голову в плечи.
Фройляйн Флиднер облегчённо вздохнула — она явно была рада моему приходу и нежно пожала мне руку.
— Рассказывайте, детка! — потребовала она, снимая с меня шляпу и поправляя мне примятые буфы на рукавах. — Как было при дворе?
Я поглубже уселась в глубокое плетёное кресло — гигантская ветка папоротника, при свете ламп изумрудно-зелёная, заколыхалась над моим лбом, другие ветки склонились над моими обнажёнными плечами на манер опахал. Я сидела словно под балдахином и чувствовала себя в безопасности. К тому же господин Клаудиус отошёл назад. Из оранжереи он не вышел — было слышно, как он тихо ходит туда-сюда за камнями и пальмами. Я снова воспрянула духом и принялась рассказывать, вначале запинаясь, а потом всё более увлечённо, о моём блестящем дебюте — как я не смогла толком поклониться; как я спела детскую песенку; как я доверчиво поведала принцессе историю моей жизни.
Шарлотта постоянно прерывала мой рассказ громким смехом; фройляйн Флиднер тихо хихикала про себя, одобрительно похлопывая меня по щекам, и только Дагоберт не смеялся — он глядел на меня тем же отчуждённо-неприязненным взглядом, что и придворная дама. В конце концов мне стало жарко, я сняла шаль и бросила её на стол, сказав при этом, что шаль принадлежит принцессе. Тогда он с благоговением взял её в руки и аккуратно перекинул через спинку своего стула — что меня чрезвычайно разозлило.
— Стоп! — воскликнула вдруг Шарлотта и предупреждающе подняла руку, когда я собралась продолжить свой рассказ. — Вот вы скажите, фройляйн Флиднер, не могла ли принцессочка, несмотря на свои синие глаза, быть скорее одной из тех дочерей Израилевых, которых так интересно описывает библия, чем отпрыском старинного, истинно немецкого дворянского рода!.. То, как головка с буйными кудрями выглядывает из-под папоротника, — пожалуйста, принцесса, проведите ещё раз рукой по лбу — живо напоминает мне юную еврейку Поля Делароша[12], которая в береговом тростнике тайно охраняет брошенного малыша Моисея.
— Но моя бабушка тоже была еврейка, — беззаботно сказала я.
Шаги за пальмами внезапно стихли, за чайным столом наступила гробовая тишина. С моего места через стекло оранжереи был виден сад. Уже взошла луна и подсветила серебром клубящиеся над нами тучи. Вдали разливался блёклый, неяркий свет, причудливо искажающий контуры предметов — это было поле белых лилий, раскинувшееся под сенью прибрежных деревьев. Казалось, что оно притягивает к себе весь свет луны… Лилии призывно светили мне во тьме, и я вновь с дрожью и болью в сердце подумала о моей бедной бабушке, рухнувшей на землю под дубом… Во мне опять ожили все переживания той страшной ночи. В течение многих лет — редкие пугающие встречи душевнобольной женщины и робкой девочки, затем — в смертный час — внезапная пробуждение бабушкиной любви; мой страх перед смертью, подступающей к только что обретённому сердцу, — всё это снова всплыло в моей душе, и я начала об этом рассказывать. Я коснулась и ужасной ссоры бабушки и старого священника — когда она отказалась от его духовной поддержки и умерла еврейкой, а он показал себя таким добрым и понимающим… Внезапно, когда все в абсолютной тишине слушали мой рассказ, под чьими-то тяжёлыми шагами заскрипел гравий, и передо мной появился бухгалтер, который уже давно должен был быть в «Усладе Каролины».
— Этот человек был дурак! — выкрикнул он мне в лицо. — Он не должен был отходить от постели до тих пор, пока он не получил эту строптивую душу. Он должен был заставить её вернуться в лоно истинной церкви — у священника имеется достаточно средств, чтобы повлиять на мятежников, которые в своей заносчивости пытаются низвергнуться прямо в ад!
Я вскочила. Мысль о том, что чей-то голос, такой же беспощадный, как и этот, мог вмешаться в борьбу со смертью и продлить мучения угасающей души, меня просто потрясла.
— О, он не посмел бы это сделать! Мы бы этого не потерпели, ни Илзе, ни я — ни за что на свете! И я не потерплю, если вы скажете ещё хоть слово о моей бедной бабушке! — вскричала я.
Фройляйн Флиднер быстро поднялась и успокаивающе обняла меня обеими руками. Она посмотрела за пальмы, откуда вновь раздались шаги — они быстро приближались к чайному столу.
— Принцессе вы всё это тоже рассказали, фройляйн фон Зассен? — быстро спросил Дагоберт — этим вопросом он положил конец дальнейшим обсуждениям и заставил шаги вновь стихнуть. Я молча покачала головой.
— Ну тогда — если я могу вам посоветовать — и впредь молчите об этом.
— Но по какой причине? — спросила фройляйн Флиднер.
— Но вы сами должны это понимать, дражайшая Флиднер, — неохотно ответил он, пожимая плечами. — Хорошо известно, что герцог не жалует евреев, поскольку его бывший дворцовый агент, Хиршфельд, ловко обманывал его и в конце концов сбежал. Далее — и это главное — вот уже несколько столетий имя фон Зассен пользуется при дворе безупречной славой. Для его высочества, правда, решающую роль играет учёность господина фон Зассена — но среди придворных это не так: им импонирует его почтенный возраст и чистота его фамильного древа; подобная болтовня из уст юной дамы может навредить как господину доктору, так и ей самой, — а она, конечно же, этого не хочет.
Я молчала, поскольку не совсем поняла, о чём это он говорит. Как мог моему отцу навредить тот факт, что его мать была еврейка? Я не могла найти этому объяснения, поскольку у меня практически отсутствовало понятие о так называемом мировом порядке. Но сейчас был не совсем подходящий момент, чтобы об этом думать, — я всё ещё дрожала от шока, вызванного внезапным выступлением ужасного старика. И он всё ещё стоял передо мной со скрещёнными на груди руками, а глаза его горели из-под белых бровей, как будто они хотели меня сжечь. Впервые в жизни я почувствовала, что меня ненавидят — юной душе трудно осознать такое; воздух, который я вдыхала вместе с моим врагом, грозил задушить меня; пребывание в оранжерее стало невыносимым.
— Я хочу пойти домой — Илзе ждёт, — я энергичным движением высвободилась из объятий фрёкен Флиднер и схватилась за шляпу, а мой взгляд жадно устремился к прохладному, просторному саду.