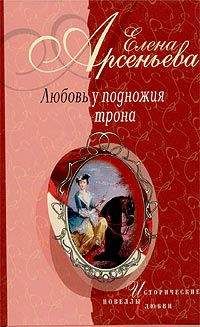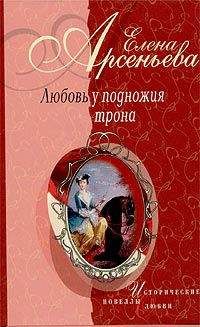Словом, великий князь Константин рассуждал сообразно своей собственной логике – логике человека глубоко порочного и в чем-то даже не совсем нормального. Впрочем, всем потомкам Павла Петровича было за что упрекнуть своего психопатического батюшку, дурная наследственность «чухонца»[1] имела свойство проявляться в самые неожиданные моменты жизни! Константин Павлович был истинным сыном своего отца с его болезненной подозрительностью. Причем чем больше он размышлял над выдуманными им же самим злоумышлениями Охотникова, тем больше верил в них. Они уже облекались страшными подробностями – и что за беда, если эти подробности тоже были вымышленными?! Константин не сомневался, что одним из первых действий новой узурпаторши Елизаветы Алексеевны будет расправа с ним, великим князем Константином. Уж она даст волю своей ненависти! Плаха виделась ему, плаха, обагренная кровью, собственная мертвая, отрубленная голова скалила зубы в судорожной страдальческой ухмылке… Приспешники и лизоблюды Константина, его верные соратники во всяческих гнусностях – Чичерин, Янкевич-Демарев, Олсуфьев, Шульгин, Баур, Нефедьев подогревали подозрительность и ярость своего господина.
Константин мечтал добраться до Елизаветы, но это было слишком опасно. А впрочем, он довольно хорошо знал свою странную невестку и понимал, что собственная неудавшаяся жизнь для нее мало что значит. Другое дело – жизнь человека, которого она так самозабвенно любит, жизнь отца ее ребенка.
Жизнь – и смерть.
Елизавета была уже на последнем месяце беременности. Подражая императору, который делал вид, что ничего особенного в случившемся нет, двор прекратил болтать и ждал родов. В конце концов, такое случалось не в первый раз. Некогда императрица Елизавета Петровна сама фактически приказала великой княгине Екатерине Алексеевне забеременеть от другого мужчины, поскольку ее муж не был способен дать ей ребенка, а стране – наследника престола. А история, как уже было сказано, имеет свойство повторяться…
С Алексеем они виделись теперь редко. Чтобы поддержать свои силы, она перечитывала его письма: и старые, хранившиеся у нее, и новые, вдруг возникающие в тех же таинственных и смешных почтовых ящиках.
«Если я тебя чем-то обидел, прости – когда страсть увлекает тебя целиком, мечтаешь, чтобы женщина уступила желаниям, отдала все, что для нее более ценно, чем сама жизнь…»
«Жизнь темна без тебя, я не вижу ничего. Запах цветов, стоящих в моих комнатах, напоминает мне о тех цветах, которые я изломал под твоим окном».
«Скоро ли кончатся наши муки? Скоро ли я снова увижу тебя у себя? Скоро ли обниму? Моя жена, друг мой! Не думал, что могу так любить, но знаю, что так любить можно только тебя!»
Срок родов приближался. И тут случилось страшное.
Октябрьским вечером Алексей Охотников выходил из театра, куда сопровождал кузину, княгиню Голицыну. Он помог молодой женщине подняться в карету, простился с ней, а сам по обыкновению пошел пешком. Лишь только он оказался на темной улице, какой-то человек незаметно приблизился к нему и ударил ножом в бок, а сам, с ловкостью записного убийцы, тотчас канул в темноту.
Пока раненого подняли, пока привезли домой… Никто не знал, что делать. Сочли, что он был ранен на дуэли, и остереглись вызывать врача, ибо дуэли карались законом. Поминутно теряя сознание, Охотников потребовал от своих домашних молчания. Только тогда послали за полковым лекарем, который был дружен с Охотниковым и знал кое-что о его сердечных делах. Впрочем, кто об этих делах только не знал!
Алексей был убежден, что скоро поправится, что рана не слишком значительна и опасна. Однако врач смотрел на дело куда более мрачно. Он откровенно сказал, что все решится не позднее чем в три недели: либо наступит улучшение, либо такое ухудшение, от которого Охотников уже не оправится.
Алексей надеялся, что слух о его ранении не дойдет до его возлюбленной. И решился ничего не сообщать ей. Превозмогая слабость, написал, что здоров, что не надо верить слухам, – и лишился сознания. Слова были в письме бодрые, исполненные надежды, однако почерк… дрожащий, неуверенный почерк… Охотников решил не отправлять письма. Либо через три недели Елизавете не о чем будет тревожиться, либо… Ну да ничего, Бог милосерд, надо уповать на него!
Однако тут в доме на Сергиевской появился Франк, лейб-медик Елизаветы. Оказывается, императрица уже узнала о случившемся! Конечно, иначе и быть не могло. Константин так гнусно хихикал, встречаясь с невесткой, его приближенные так радостно болтали о покушении…
Никто не смел открыто обвинить их в соучастии, можно было только догадываться, предполагать, ненавидеть молча.
Елизавета нашла силы и молчать, и затаиться. Она знала, что ее жизнь и здоровье – это жизнь и здоровье ребенка. Она не могла ринуться к Алексею, хотя этого ей хотелось больше всего на свете. Она послала лейб-медика, хотя Франку было глубоко неприятно быть посыльным этой «преступной страсти», как он выражался про себя. Но долг и честь обязывали его не отказывать в помощи, а главное – не выдавать врачебной тайны. Он согласился с выводами коллеги – военного доктора, привез Елизавете это известие – и сумел убедить ее набраться терпения.
Больше навещать раненого лейб-медик Франк не стал – полковой лекарь был знатоком своего дела. На счастье, в Петербурге находилась принцесса Амалия Баденская, сестра императрицы, которая бывала у раненого чуть ли не каждый день, так что у Елизаветы был хотя бы подробный бюллетень о состоянии здоровья ее возлюбленного.
Увы, вести были неутешительны. Теперь можно было увериться в том, что раньше только опасливо предполагали: убийца воспользовался не только клинком, но и ядом. Улучшения не наступило, Охотников умирал – и знал, что умирает.
Елизавета больше не могла ждать, не могла не видеть его. Она послала сестру предупредить о своем приезде. Время было назначено – девять вечера. Охотников стал просить, чтобы его переодели в парадный мундир. Но пока надевали красный супервест, он несколько раз терял сознание от боли, вдобавок крючки невозможно было застегнуть из-за повязки. Все это было неважно, неважно…
Комната была убрана цветами – каждый день их присылали по просьбе императрицы.
Елизавета приехала одна: Амалия должна была присутствовать на придворном рауте и прикрывать отсутствие сестры ее внезапно приключившимся нездоровьем.
При виде лица Алексея она впала в какое-то оцепенение. Надежда, которую она все эти дни лелеяла в своей душе, рухнула мгновенно, окончательно! Елизавета даже не могла плакать… а впрочем, это было только к лучшему.