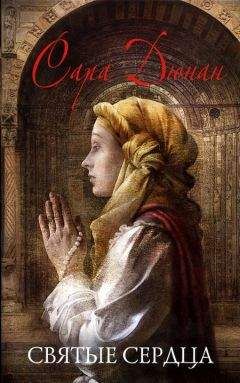Она смешивается с толпой, обгоняя одну за другой молчаливые фигуры. В такие дни, как сегодня, когда туман смешивается с сумерками, они напоминают сборище призраков, а шелест их юбок и перестук подошв звучат, словно потусторонний разговор. Серафина поднимает голову и видит лицо сестры Аполлонии, проплывающей мимо в тумане. Их глаза встречаются, и она, как положено, опускает взгляд, но Аполлония все смотрит, как будто увидела что-то интересное. В час рекреации эта самая светская из монахинь хора держит в своей келье собственный двор, где неравнодушные к моде сестры играют музыку и рассказывают истории за стаканом вина, и даже угощаются лакомствами с кухни. Послушниц туда не пускают, но те скоро становятся полноправными членами общины, а потому Аполлония внимательно приглядывается к новому поколению бунтарок.
Серафина проходит мимо входа в лазарет. Она не видела сестру Зуану с утра, с тех пор как побывала у нее после церкви. Восковую печать надо, конечно, спрятать, но если она поторопится, то успеет навестить Зуану сейчас. А заодно, может статься, и вернуть на полку сироп. Ведь из кельи теперь нельзя будет выходить до последней молитвы.
Войдя, она с удивлением обнаруживает, что сестра-травница не только пришла в себя, но и сидит в постели, тяжело привалившись головой к стене. С улыбкой, нет, с тихим смехом девушка устремляется к ней.
— Как ты?
Зуана смотрит на нее, точно не понимает.
— Серафина? Я… Что ты тут делаешь?
— Я… Аббатиса распорядилась. Я… Мы боялись за тебя.
— Что случилось? Я что, упала в обморок?
— По-моему, да.
На почти сером лице Зуаны ярко алеют губы. «Знак не божественной любви, но собственных экспериментов», — думает Серафина, поправляя ее покрывало.
Сидение в постели, кажется, отняло у нее все силы.
— Это была кошениль, — говорит Зуана устало.
— Да. Тебя вырвало, пол был залит ею. Мы подумали, что ты истекаешь кровью. Все очень волновались. Жар у тебя был страшный.
Зуана качает головой.
— Я… помню, как выпила ее, а потом почувствовала себя очень плохо.
Серафина колеблется, потом нерешительно протягивает руку и кладет ее Зуане на лоб, сначала тыльной стороной, затем ладонью, как та делала при ней с пациентами.
— О! — восклицает Серафина, отнимая руку, потом щупает снова, точно не верит. — Да ты холодная! Лихорадка прошла.
Зуана хмурится, трогает свой лоб, затем находит на руке пульс и на несколько секунд застывает.
— Похоже, так оно и есть.
— Но почему? Вряд ли это от кошенили. Тебя же ею вырвало.
— Ты говорила, что она была на полу. А если судить по запаху, побывала она у меня в желудке?
— Я… э-э… не знаю. Запах был… — пытается вспомнить Серафина. — Вроде мускуса? В чашке немного осталось. Так я и поняла, что это такое.
— Я не все выпила. Падая, я, должно быть, выплюнула то, что не успела проглотить. Ты мне еще что-нибудь давала?
— Нет-нет… Только приложила ко лбу мяту с уксусом. Я боялась давать тебе что-нибудь, вдруг бы тебя опять стошнило.
— Который сейчас час?
— Час до последней молитвы.
— А день какой? — спрашивает Зуана нетерпеливо.
— О, пока тот же.
— Значит, шесть часов. Лекарство действует шесть часов. Надо записать, — решает Зуана, пытаясь встать.
— Нет! Ты же еще больна.
— Не настолько, — замечает Зуана, продолжая двигаться.
— Подожди. Я принесу тебе книгу, — произносит Серафина, поднимаясь, но не уходит. — Мне можно войти без тебя в аптеку?
Зуана снова откидывается на стену и слабо улыбается.
— Кажется, ты там и так уже побывала.
— О, только с аб… — Она умолкает. Нет, это не правда. Она пришла туда раньше аббатисы. Но сейчас ей не хочется привлекать к этому внимание.
В аптеке Серафина бросает взгляд на пятно на полу и чувствует — что? — кажется, радость? Да, радость. Сестре Зуане полегчало. Она не умрет. Неужели она и впрямь так о ней беспокоилась? Похоже, в глубине души да.
Но сейчас ей не до того. Она достает из складок платья бутылку с сиропом и быстро отливает немного в приготовленный пустой пузырек, а остальное возвращает на полку. Теперь все сосуды стоят на своих местах. Маковая настойка отсутствовала двадцать четыре часа. Остается надеяться, что ее не успели хватиться. А сейчас надо возвращаться в келью, ведь колокол уже звонит на молитву, и монастырь скоро опустеет.
— Как дела в общине? — спрашивает Зуана, когда она возвращается с книгой. — Что со старшей прислужницей?
— У нее сильный жар. Я дала ей немного коньяка с базиликом недавно.
— Ты?
— Я же тебе говорила. Мне было дано распоряжение помогать. Сестра-наставница сказала, что мне это полезно.
Зуана глядит на нее во все глаза.
— Да-а… из тебя еще выйдет сестра-травница.
Но Серафина так погрязла в обмане, что комплимент уже не радует ее.
— Санта-Катерина не нуждается в другой целительнице, — спокойно отвечает она. — У нее есть ты, — произносит Серафина, чувствуя, как восковая подушка все больше нагревается у нее на груди, и от страха, что отпечаток может потерять четкость, ей становится еще хуже.
Зуана снова пытается встать с постели.
— Дай-ка мне книгу. Я сделаю запись, а ты пока приготовишь другой состав.
— Я… Мне надо идти. Колокол звонит.
— Это недолю, всего несколько минут, а я объясню аббатисе, почему ты задержалась. Ну, помоги же мне встать, пока Клеменция не сообразила, что у нее теперь новая компаньонка.
Позже, когда сестра Зуана приходит на общую молитву, слабая, но все же на своих ногах, община в изумлении, ведь все уже слышали, что ее нашли полумертвой на полу аптеки, где она лежала, истекая кровью. Не будь всякие разговоры запрещены, ее наверняка поздравляли бы с выздоровлением, а также удивлялись бы, как при таком бледном лице можно иметь такие пышущие здоровьем губы. А так лишь Федерика смотрит на нее с некоторым подозрением, но ей уже не терпится приняться за изготовление марципановых фруктов, а потому клубничный цвет мерещится ей везде.
Остальные изливают свою благодарность в словах службы, ибо последний час, который означает конец дня и начало Великого Молчания ночи, начинается с покаяния, но потом движется к радости. Даже сестра Юмилиана кажется спокойной и почти счастливой, а прежде непокорная послушница Серафина, которая, как поговаривают, получила особое распоряжение ухаживать за своей бывшей наставницей, чистейшим голосом возносит начальные слова двадцать девятого псалма: «Ты превратил скорбь в ликование, совлек с меня власяницу и препоясал меня радостью. О, мой Господь, я буду благодарить Тебя вечно». Те сестры — а их не так уж мало, — которых ее внезапное преображение настораживает не меньше, чем раньше раздражаю ее откровенное бунтарство, неожиданно для себя возносят дополнительную благодарность за то, что община обрела свое прежнее равновесие. И что теперь ничего не помешает встретить карнавал со всеми его удовольствиями и развлечениями.