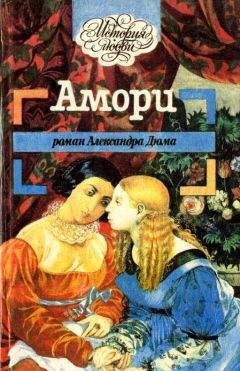— Да, я скажу в двух словах, судите сами: он любил Мадлен, он сам говорил мне это, он умолял меня просить у вас для него руки Мадлен. Это было в тот самый день, когда вы согласились на наш брак. А сегодня он любит Антуанетту, как ранее любил Мадлен, как он, возможно, полюбит десяток других. Скажите, какое доверие можно питать к сердцу, меняющемуся так быстро и так основательно, забывая менее чем за год любовь, которую он называл вечной.
Услышав столь глубокое возмущение Амори, потрясенная Антуанетта склонила голову и замерла.
— Вы очень строги, Амори, — сказал господин д'Авриньи.
— Да, мне тоже так кажется, — робко заметила Антуанетта.
— Вы его защищаете, Антуанетта! — закричал Амори.
— Я защищаю нашу слабую человеческую природу, — заговорила девушка. — Амори, не все люди имеют вашу непреклонную душу и ваше незыблемое постоянство. Будьте снисходительны к слабостям, которых у вас нет.
— Это значит, — горько сказал Амори, — что Филипп снискал вашу милость… а Антуанетта…
— А Антуанетта права, — сказал господин д'Авриньи, пристально глядя на молодого человека и как бы желая читать в самой глубине его души. — Вы слишком быстро выносите приговор, Амори.
— Но мне кажется… — с пылом заговорил Амори.
— Да, — прервал его старик, — я знаю, что ваш возраст не склонен щадить и принимать слабости простых смертных. Мои белые волосы научили меня терпимости, и вы сами, возможно, когда-нибудь поймете, что самая несгибаемая воля с течением времени слабеет; в ужасной игре страстей самый сильный характер не может ручаться за себя, самый гордый ум не может сказать: «Я буду там завтра».
Не будем судить никого, чтобы не быть строго судимыми. Нас ведет судьба, а не наша воля.
— Следовательно, — воскликнул Амори, — вы предполагаете, что я тоже способен однажды предать память Мадлен?
Антуанетта побледнела и оперлась на стену.
— Я ничего не предполагаю, — сказал старик, качая головой, — я жил, я видел, я знаю. Вы берете на себя роль молодого отца Антуанетты, как вы сами сказали, постарайтесь быть добрым и милосердным.
— И не сердитесь на меня, — добавила Антуанетта с едва уловимой горечью, — за то, что однажды я призналась, что после Мадлен можно полюбить кого-то другого, не сердитесь на меня, я раскаиваюсь.
— Кто может сердиться на вас, ангел чуткости? — сказал Амори, от которого ускользнуло чувство горечи, вызвавшее эти слова, и который понял ее извинения буквально.
В этот момент, верный данным распоряжениям, Жозеф доложил, что экипаж для Антуанетты подан.
— Я еду с Антуанеттой? — спросил Амори у доктора.
— Нет, мой друг, — сказал господин д'Авриньи, — несмотря на вашу отцовскую роль, вы слишком молоды, и вам следует соблюдать в ваших отношениях с Антуанеттой самые жесткие правила, не из-за вас, разумеется, а ради общества.
— Но я приехал на почтовых лошадях и отпустил экипаж, — сказал Амори.
— Вторая коляска к вашим услугам, пусть это вас не беспокоит. Теперь вы не можете жить на улице Ангулем. Когда захотите посетить Антуанетту в Париже, я вас прошу наносить визиты в сопровождении одного из моих старых друзей. Де Менжи бывает у нее трижды в неделю в определенные часы. Он будет счастлив сопровождать вас к ней. Он это делает, как мне рассказывала Антуанетта, для Филиппа Оврэ.
— Значит, я теперь чужой?
— Нет, Амори, для меня и для Антуанетты вы — мой сын. Но в глазах света вы — молодой человек двадцати пяти лет и только.
— Будет забавно постоянно встречать этого Оврэ, которого я терпеть не могу. А я поклялся не встречаться с ним!
— Пусть он приходит, Амори, — воскликнула Антуанетта. — Вы увидите, какой прием он встретит. И, наверное, у него очень толстая кожа, если он будет продолжать свои визиты.
— Да? — сказал Амори.
— Вы сможете судить об этом сами.
— Когда?
— Уже завтра. Граф де Менжи и его супруга посвящают бедной затворнице три вечера в неделю: вторник, четверг и субботу. Завтра суббота, приходите завтра.
— Завтра… — прошептал Амори нерешительно.
— Обязательно приходите, — сказала Антуанетта, — мы так давно не виделись, нам есть о чем поговорить!
— Идите, Амори, идите, — сказал господин д'Авриньи.
— Тогда до завтра, Антуанетта, — сказал молодой человек.
— До завтра, брат, — сказала Антуанетта.
— До следующего месяца, дорогие дети, — сказал господин д'Авриньи, который с меланхоличной улыбкой слушал их спор. — Если в течение этого месяца я вам буду нужен по какой-нибудь важной причине, я разрешаю вам приехать ко мне.
Опираясь на руку Жозефа, он проводил их до экипажей и, обнимая их, сказал:
— Прощайте, друзья мои.
— Прощайте, отец, — ответили молодые люди.
— Амори, — крикнула Антуанетта, в то время как Жозеф закрывал дверцу. — Не забудьте: вторник, четверг и суббота.
Потом сказала, обращаясь к кучеру:
— Улица Ангулем.
— Улица Матюрен, — сказал Амори.
— А я пойду на могилу моей дочери, — сказал господин д'Авриньи, проводив глазами удаляющиеся экипажи.
И, опираясь на руку Жозефа, старик пошел по дороге к кладбищу. Чтобы отдать вечерний поклон дочери, как он делал это каждый день.
На следующий день Амори приехал в особняк графа де Менжи, с которым, впрочем, они были знакомы, поскольку Амори много раз встречал его прежде в доме господина д'Авриньи.
Тогда их отношения были холодными и редкими. Юность тянется к юности, но старается отдалиться от старости.
Письмо Антуанетты графу опередило Амори. Она хотела предупредить своего старого друга о намерениях господина д'Авриньи, касающихся роли покровителя, какую он дал или, скорее, разрешил взять своему воспитаннику, и предупредить таким образом вопросы, сомнения или удивление, какие могли бы привести Амори в замешательство или ранить его.
Когда Амори приехал, граф уже ждал его и принял его, как человека, облеченного полным доверием господина д'Авриньи.
— Я восхищен, — сказал ему господин де Менжи, — что мой бедный старый друг дал мне в помощники второго опекуна Антуанетты, который, благодаря своей молодости, сумеет читать лучше меня в сердце двадцатилетней девушки, который сможет посвятить меня в планы моего друга.
— Увы! Сударь, — ответил Амори с грустной улыбкой, — моя молодость состарилась с того момента, когда я имел честь познакомиться с вами. Я так много смотрел в свое собственное сердце за эти шесть месяцев, что не уверен в моей способности читать в сердцах других.
— Да, я знаю, сударь, — сказал граф, — я знаю, какое несчастье вас постигло и как ужасен был удар. Ваша любовь к Мадлен была той страстью, которая заполняет всю жизнь. Но чем больше вы любили Мадлен, тем важнее долг по отношению к ее кузине, к ее сестре. Именно так, если я хорошо помню, ее называла Мадлен.