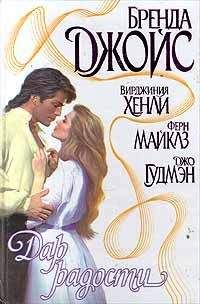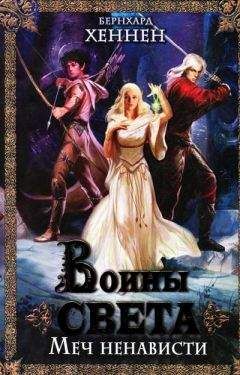Хотя господин Клаудиус, пускай и без единого слова порицания, но весьма красноречиво закрыл для меня выход из леса через дверцу в стене — он на моих глазах вынул из замка ключ и спрятал его в карман, — но я всё же побежала к ограде, и — смотрите-ка, в двери красовался новый замок, крепкий замок без ключа; даже петли и задвижки были новые — тысяча чертей, какое же уважение надо было иметь к могучей девичьей ручке, чтобы вот так заковать дверь в железо!
Я вскарабкалась на вяз; сегодня это было довольно трудно — я было обута в башмаки с пустоши, а они мне стали так широки, что всё время норовили соскользнуть со ступней и свалиться в заросли.
Наконец я забралась на вершину. На балконе швейцарского домика, затенённом диким виноградом, стояла детская коляска — в ней на белых подушках возлежал малыш Герман, разнеженный и, очевидно, наевшийся. Рядом с ним стояла Гретхен и с аппетитом жевала огромный бутерброд, болтая при этом с маленьким братцем, а в глубине комнаты их мама гладила бельё. Она то и дело выбегала на порог, чтобы посмотреть на детей.
Кто бы мог подумать, что на этом милом, мягком лице может отражаться такая буря чувств, какую я наблюдала в воскресенье утром! Но сейчас в этих улыбчивых чертах не осталось и следа той бури, да и Гретхен совершенно не горевала о своей потерянной коляске. Но коляску необходимо было вернуть, и вернуть немедленно. Я хотела наполнить её свежесорванными ягодами и лесными цветами, а потом попросить садовника Шефера отнести её в дом. Я слезла с вершины и заскользила по ветвям вниз — и увидела, что сюда со стороны «Услады Каролины» идут люди; они, очевидно, были уже довольно близко — я вздрогнула от ужаса, услышав голос бухгалтера; он звучал так, как будто тот стоял прямо под вязом. Забраться на вершину я больше не могла, поскольку не хотела привлекать к себе внимание. Тихо надеясь, что бурю скоро пронесёт, я обвила руками ствол — в этот момент я сидела на очень тонкой и очень шаткой ветке — и с сильно бьющимся сердцем стала прислушиваться к тому, что происходит внизу.
Первое, что я увидела сквозь листву и сплетение ветвей, была шарлоттина пурпурная вуаль, которую та часто надевала — а где Шарлотта, там и Дагоберт; брат с сестрой снова сбежали из душного главного дома в лес; они были несчастны и нуждались в утешении, но меня неприятно поразило, что утешения они искали у ужасного старика.
Они повернули на дорожку, пролегавшую рядом с моим укрытием. Экхоф понизил голос, но его аффектированная манера речи позволяла мне отчётливо слышать каждое слово. В руке он держал шляпу; его обычно белоснежная макушка сегодня как-то потускнела. Ожесточённое, озлобленное выражение подчёркивало бесчисленные морщины и складки на его обычно гладком, можно даже сказать тщательно ухоженном лице.
— Молчите вы, ради бога, с вашими утешениями! — остановившись, безо всякой вежливости воскликнул он. — Последствия не поддаются расчёту! Вы оба не можете об этом судить, поскольку не знаете, какой гигантский шаг вперёд мы сделали, когда дом Клаудиусов и многие его души вступили в наши ряды — это произвело сильное впечатление и повернуло к церкви многих слабых и колеблющихся… И вот теперь всё воздвигнутое разрушается с таким скандалом, с такой беспощадностью… Какое злополучное ослепление — божка и идола новейших времён, так называемое образование, пагубное по своей сути, поставить на то место, где уже снова начал властвовать господь со всей своей мощью и силой!
— Дядя своей причудой вредит сам себе, — холодно сказал Дагоберт. — Владетельные и имущие не имеют лучшего союзника, чем церковь, в противостоянии с тем, что потрясает основы… Если бы у меня в руках была власть и деньги, то ваша партия была бы богаче на одного ревностного покровителя — я понимаю наше время и принадлежу к тем, кто всегда поставит подножку безумному волчку, именуемому прогрессом.
— В отношении церкви фройляйн Шарлотта думает иначе, — сказал Экхоф, устремив пронзительный и строгий взгляд на молодую девушку.
— Да, тут наши взгляды расходятся, — сказала она откровенно. — Будь у меня деньги, я бы прежде всего употребила их на то, чтобы развеять позорную, унижающую тьму, покрывающую прошлое нашей семьи — я больше не хочу питаться редкими крохами, которые мне иногда бросают, я ясно понимаю и чувствую, что это недостойно, что я, возможно, когда-нибудь буду этого стыдиться!.. С этого момента я стану собирать и экономить…
— Фройляйн Шарлотта — экономить? — недоверчиво-саркастически переспросил её Экхоф.
— Я вам говорю, — резко вскинулась она, — я буду ходить в рубище, только чтобы собрать денег на поездку в Париж…
— Что, если вам не надо так далеко ехать, чтобы развеять тьму?..
Каждое из этих слов ударило колоколом по моему слуху и нервам. Человек, медленно и веско произнесший это слова, выглядел так, как будто он только что одним ударом прекратил тяжёлую внутреннюю борьбу. — Идите сюда, — повелительно сказал он молодой даме, которая механически-безмолвно последовала за ним. Он уселся на скамью, на которой я в воскресенье пела. Скамья находилась как раз напротив моего убежища.
О небо, в каком ужасном положении я оказалась! Я крепко обхватила ствол вяза и судорожно сжала руки от страха, что тонкая ветка, на которой я сижу, может треснуть под моим весом; к тому же мои несчастные башмаки медленно, но верно сползали с болтающихся ступней, и я ничего не могла с этим поделать — боже, если один из этих маленьких уродцев с грохотом свалится с высоты, то какая это будет потеха для Дагоберта и какой прекрасный повод для моего врага, чтобы хорошенько меня отчитать!
— Я хочу вам рассказать одну историю, — сказал бухгалтер брату с сестрой, которые сели на скамью рядом с ним. — Но сначала выслушайте одно откровенное объяснение… То, что я сейчас вам сообщу, вы узнаете не потому, что я так уж сильно к вам привязан — утверждать это было бы ложью… Я расскажу об этом не из чувства мести — «Мне отмщение, и Аз воздам, говорит Господь»[13]… Вы видите сейчас во мне не человека Экхофа, а воина господня, у которого нет выбора, поскольку он сейчас поставлен между земными интересами людей — пускай даже своей собственной семьи, своей плоти и крови — и благом для церкви!
Экхоф был действительно воодушевлён своим слепым фанатизмом — он серьёзно веровал в то, что говорил. Достаточно было увидеть мрачный огонь в его глазах, устремлённых сквозь листву к небу.
— Вы много раз уверяли меня, что при обретении богатства и достойного имени вы сразу станете одним из нас, — сказал он Дагоберту.
— И я торжественно это подтверждаю — я не найду ни тому, ни другому лучшей защиты — и не пожалею для этого тысяч и тысяч…