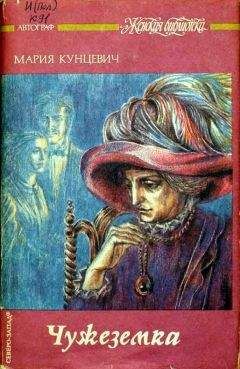Из своего окна я увидела, как к калитке подошли Гвен и Сюзи. Я догадалась, что Гвен хочет войти, а Сюзи по своему обыкновению упрямится, и замахала им рукой. «При Гвен, — думала я, — все станет на свои места. Михал повеселеет, молодость возьмет верх». Так и оказалось, как только я, проводив гостей в кабинет, пошла на кухню резать пирог, двери снова скрипнули, раздались веселые возгласы Михала: «Сьюзен, ты зачем так быстро растешь? Скоро состаришься, и я не смогу на тебе жениться». На кухню заглянула Кэтлин — порозовевшая, похожая на ту, прежнюю. И тут же, не дожидаясь моих слов, поставила на поднос чашки, дом повеселел. Я обрадовалась — значит, и без Партизана все может быть как прежде.
Вдвоем с Кэтлин мы внесли в комнату поднос с фарфоровыми чашками и со сладостями. По комнате разнесся аромат свежезаваренного чая, мебель ожила, предметы, которые я уже перестала было замечать, вдруг повеселели, ковер стал мягче, картины заговорили. Может быть, оказавшись у семейного очага, я стану просто матерью и мифы забудутся?
Но огонек уюта быстро угас. Гвен, чувствовавшая себя неловко, опрокинула на платье кувшинчик с молоком. Михал с салфеткой в руках кинулся к ней на помощь, но Сюзи оттолкнула его:
— Не трогай мою маму! И, пожалуйста, не женись на мне, уезжай в свою Америку!
Кэтлин отодвинула чашку и поморщилась, словно обожглась горячим чаем. Она с испугом взглянула на Михала. Михал рассмеялся деланным смехом.
— Ты всегда была ужасно упрямой, Сюзи, но я не знал, что ты меня так ненавидишь.
Из разговора выяснилось, что Кэт Уокер писала Гвен о том, что Михал решил уехать в Америку, а она хлопочет о вызове для него. Сюзи болтала ногами, сидя в кресле, и глазела в окно. Кэтлин грызла шоколадку, Михал суетился, у меня пирог застрял в горле. Наконец гости ушли. Тут же завязался разговор.
— Почему ты не сказал, от кого у тебя приглашение?
Кэтлин говорила равнодушно, словно зная наперед, что не услышит ни слова правды. Михал тут же перешел в атаку.
— А не все ли равно, от кого у меня вызов? Чем миссис Уокер хуже какой-нибудь католической, еврейской или масонской мафии? Может, тебе рассказать, как выглядели канцелярские крысы, которые ставили печати на бумажках? — Михал уже не мог остановиться. — Зачем к этому возвращаться? Разве мы в Лондоне не проговорили две ночи? Ты же первая сказала, надо что-то изменить. Брэдли наверняка изменился, он не будет навязываться. Он просто хочет, чтобы рядом был кто-то молодой, хочет помощи, хочет…
Он не кончил. Она сидела неподвижно, с темными тенями под глазами, отчужденная, далекая, он вдруг беспомощно взмахнул рукой, словно пытаясь найти замену словам, которых не хватало. Подошел к ней и осторожно коснулся ее плеча.
— Кася, королева моя, улыбнись.
Они по-прежнему вели себя так, будто меня не было в комнате. А мне казалось, что я по ошибке попала в операционную и теперь присутствую при операции. Я боялась шевельнуться, боялась за жизнь больной, но не совсем понимала, в чем суть операции. Между тем Кэтлин, словно от потери крови, с каждой минутой становилась все бледнее. Михал потряс ее за плечо.
— Кася, отзовись. — Обнял ее. — Кася, ты ведь сама хотела… Это ненадолго. Одно твое слово — и я приеду.
Встал на колени, обнял ей ноги, поцеловал край платья.
— Скажи, ты хочешь, чтоб я остался?
Она отвела его руки. Встала. Подошла к окну, откинула назад голову — словно мраморную из-за тяжелого узла волос, прежде легких и пушистых, — уставилась на залив. Не оборачиваясь, сказала:
— Если ты будешь несчастлив, я к тебе приеду…
Мне вспомнился их первый вечер у меня дома, когда в воздухе, словно запах розового масла, была разлита симфония Франка. Я вспомнила взгляды, устремленные куда-то внутрь, в глубину души, где свершалось это великое таинство. У меня тогда сжалось сердце, я подумала: им уже некуда идти, не касаясь друг друга, они достигли вершин. Повеет ветерок — и все кончится. Она сядет в автобус и уедет в Труро, он проедет с ней одну остановку, вернется домой, попросит молока.
Все вышло совсем по-другому. После июньской ночи, музыки Франка была общая постель, Труро, Лондон… Теперь они возвращаются к исходной точке. Полно. Возвращаются ли? Вернулся ли хоть один из этих скитальцев домой? Разве что на минутку, чтобы сравнить свой теперешний рост со старой зарубкой на косяке, сделанной давным-давно, когда дома в последний раз отмечался его день рождения.
Кэтлин стояла у окна, повернувшись к нам спиной. Она смотрела вдаль, где-то там за горами и долами в Суссексе был дом ее родителей. В их новом доме она побывала всего один раз, чтобы сообщить, что подыскала в Корнуолле «отличное место». Свиданья были заменены письмами. О существовании Михала она вообще не поставила их в известность. Лондонский период был также отнесен за счет Брэдли, подтверждением этому служили роскошные праздничные подарки. Я подошла и поцеловала ее в щеку.
— Ох и грустно будет тебе без него, Подружка.
И только тут я поняла, что его нью-йоркское отсутствие будет для меня куда чувствительнее лондонского…
Тем временем подал голос Михал:
— Мама, а помнишь, отец привез мне из Америки замшевые ботинки и ковбойскую шляпу? Помнишь, он тогда был в восторге от Рузвельта? Тогда я думал, Нью-Йорк — это где-то на Луне. А теперь? Раз уж нельзя быть с Кэтлин, лучше податься в Штаты. Как считаешь?
Я промолчала. В эту минуту он, мужчина, сын своего отца, вызывал у меня неприязнь. Я прекрасно помню то время, когда Петр вернулся из Америки, кажется, это был тридцать третий год. Он был направлен с политической миссией в тамошнюю Полонию. А вернее всего, он для поднятия настроения сам выдумал себе эту миссию. Но и за морями «польские стихии» были равнодушны к его парадоксам. Тогда для поддержки тонуса он вернулся в Варшаву, нагруженный товарами высшего сорта, и вскоре все столы и стулья в нашей квартире были завалены подарками. Покупая, Петр не задумывался над тем, кому что нужно. Этого у него и в мыслях не было. Покупал, потому что мог, раздавал, потому что любил, когда его любят. Из моря кружев и шелка я с трудом выудила кое-что пригодное для старых дородных тетушек и горничных. К тому же идеи американских технократов нелегко приживались на польской почве. Один Михал был в восторге. Он выклянчил себе замшевые полуботинки, которые были ему порядком велики, а уроки готовил в ковбойской шляпе.
Видно, теперь он дорос до Америки. Слов Кэтлин — «если ты будешь несчастлив, я к тебе приеду» — он как бы не расслышал. Он не собирался быть несчастливым.
Я стояла рядом с Кэтлин и смотрела на туманную голубизну залива, уходившего через скалистые ворота в океан. Где и когда я так уже впядывалась в бездорожье? Ну конечно, на гуцульском крыльце в сентябре тысяча девятьсот тридцать девятого года. Тогда Михал остался с отцом, а я уехала. Теперь он собирался в дорогу, а я оставалась. С кем? С женщиной, которую мой сын решил бросить. «Мы будем скучать вместе», — шепнула я.