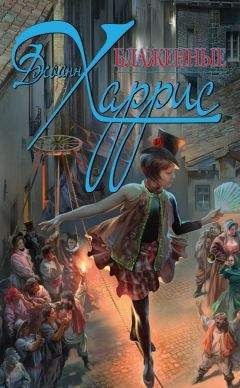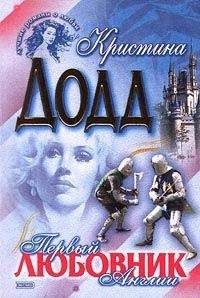47. 13 августа 1610
Альфонсину признали одержимой. Пока известны пятьдесят пять демонов, терзающих ее душу, но отец Коломбин уверен, что их больше. Для изгнания нечисти нужны имена всех вселившихся, поэтому стены сторожки завешаны списками, которые святой отец то и дело дополняет. Виржини тоже побледнела и осунулась. Уже несколько раз видели, как она кружит у сада при лазарете и бормочет себе под нос. В ответ на просьбы остановиться и передохнуть она смотрит с пугающим спокойствием, бормочет «нет-нет» и опять берется за свое. По слухам, скоро и ее к одержимым причислят.
Мать Изабелла по-прежнему в своих покоях. Ее одержимость Лемерль отрицает, но так неискренне, что многие сестры уверены в обратном. У часовни поставили жаровню, на которую побросали кусочки ладана и противные демонам травы. Еще одну жаровню разместили у лазарета, третью у ворот монастыря. У свежего дыма приятный сладковатый запах, но он быстро киснет, воздух, и без того душный, грязным занавесом висит на фоне раскаленного добела неба.
Нечестивую Монахиню видели и сегодня, и вчера: раз в дортуаре, дважды в аркаде и еще дважды в саду. Никто пока не отметил, что Монахиня стала значительно выше, не увидел большой след, который она оставила на грядке. Наверное, такие мелочи для нас теперь не важны.
Остаток дня мы провели в праздности. Точно так же было после смерти матери Марии. Изабелле нездоровилось, Лемерль изучал свои книги, а мы без твердой руки впали в прежнее состояние и с нарастающей тревогой припоминали события минувшей недели. Никем не управляемый, наш корабль несется на скалы, мы не в силах этому воспрепятствовать и от безысходности предаемся сплетням и нездоровому самокопанию.
Сестра Маргарита скребла чистые полы дортуара, пока не стерла колени в кровь. Потом оттирала свою же кровь с таким пылом, что ее вернули в лазарет. Сестра Мари-Мадлен лежит на кровати и жалуется на зуд между ног. «Сколько ни чеши, не стихает», — хнычет она. Антуана из лазарета не ушла, а сбежала: там, мол, сейчас четверо, каждая к койке привязана, шум с ума сводит. Она с удовольствием потчует меня жуткими подробностями, вне сомнений, сильно приукрашенными. Слушать ее не хочется, но я слушаю.
Сестра Альфонсина, по словам Антуаны, тяжело больна. Дым жаровен не очистил ее легкие, а, наоборот, усугубил ее состояние. Сестра Виржини считает это признаком одержимости, ведь, вопреки ее лечению и частым визитам Лемерля, кровохарканье у больной усилилось.
Сестра Клемента, опять-таки со слов Антуаны, не ест уже четвертый день и почти не пьет. Она так слаба, что едва двигается и невидящими глазами смотрит в потолок. Губами шевелит, а слова сказать не может. Ну зачем ей мучиться?
— Антуана, чем Клемента тебе навредила? — невольно вырвалось у меня. — За что ты ее так ненавидишь?
Антуана взглянула на меня, и я вдруг вспомнила, как дивилась ее красоте — густым иссиня-черным волосам, выпущенным из-под вимпла, покатым розовым плечам и нежному затылку, подставленному под ножницы Лемерля. С тех пор она изменилась почти до неузнаваемости. Безжалостное и отрешенное лицо ее точно из базальта высекли.
— Ты никогда не понимала меня, Августа, — надменно проговорила она. — Относилась ко мне по-доброму, но не понимала. — Она уперла руки в бока. — Куда тебе! Ты же все получаешь играючи. Мужчины смотрят на тебя с восхищением — вот, мол, красавица! — Улыбка не озарила, а омрачила лицо Антуаны. — Я же всю жизнь ломовая лошадь, жирная деваха, слишком тупая, чтобы обижаться на насмешки, слишком добродушная, чтобы ненавидеть, даже тайком. Мужчины видели во мне аппетитную телку, которую можно мимоходом потискать — ноги, сиськи, рот да пузо, женщины — дуру, которой ни мужчину удержать, ни даже… — Антуана осеклась. — Отец ребенка меня не интересовал. Какая разница, кто он и откуда? Малыш был бы только мой. Никто не подозревал, что толстуха забеременела. Пузо у меня с детства колесом, сиськи тяжелые. Думала, рожу тайком и спрячу, чтобы никто не отнял. — Взгляд ее вдруг стал холодным как лед. — Малыш был бы мой, только мой, он любил бы меня и толстой, и дурной. — Антуана посмотрела мне в лицо. — Ты, верно, знаешь, каково это, Августа. Я ведь ни секунды в твою байку не поверила. Дура дурой, а смекнула, что ты такая же богатая вдовушка, как я. — Антуана снова улыбнулась, не злобно, но и без тепла. — Главное — ребенок, а его отец — дело десятое. Советчиков рядом не оказалось, а даже если б нашлись, ты никого не послушала бы, верно?
— Да, Антуана.
— Мне было четырнадцать. Рядом отец, братья, дядья и тетки. Они все считали меня тварью бессловесной и приняли решение, не дав пикнуть. Я, мол, не смогу заботиться о ребенке. Жить не смогу с таким позором!
— А дальше?
— Ребенка решили отдать моей двоюродной сестре Софи. Меня даже не спросили. Софи к восемнадцати годам уже троих родила. Она, мол, и четвертого вырастит. А скандал скоро забудется. Он же яйца выеденного не стоит! Безмозглая толстуха ребеночка нагуляла! А папаша-то кто? Слепой?
— И что?
— Взяла я, значит, подушку, — негромко и задумчиво начала Антуана, — и положила сыночку на голову. Малышу своему, на его темный затылочек. Положила и давай ждать. — Улыбка Антуаны светилась пугающей нежностью. — Августа, он был для всех обузой, а для меня — единственным светом в окошке. Иначе его мне не оставили бы.
— А при чем тут Клемента?
— Я все ей рассказала, — ответила Антуана. — Думала, она другая. Думала, она поймет. Клемента… посмеялась надо мной. Она такая, как все… — Антуана в очередной раз улыбнулась, и на миг меня снова ослепила ее красота. — Но сейчас это неважно, — злорадно добавила она. — Отец Коломбин пообещал…
— Что пообещал?
Антуана покачала головой.
— Это секрет, мой и отца Коломбина, поэтому тебе я не скажу. Впрочем, скоро сама узнаешь. В воскресенье.
— В воскресенье? — Меня аж заколотило от дурного предчувствия. — Антуана, что именно он сказал?
Антуана склонила голову набок — получилось до нелепого кокетливо.
— Он пообещал. Все, кто смеялся надо мной, кто наказывал за невоздержанность. Довольно клеймить бедную дуреху Антуану, довольно измываться над ней. В воскресенье мы разожжем пламя!
Ни слова больше — Антуана сложила полные руки на груди и отвернулась с пугающе ангельской улыбкой.
На заре она разыскала меня в часовне. Сей раз я был один. Тошнотворный запах вчерашнего ладана сводил с ума, утреннее солнце робко сочилось сквозь пелену пыли. На миг я прикрыл глаза и с упоением представил горячий смрад и паленую плоть… Теперь плоть будет не моя, монсеньор, не моя.