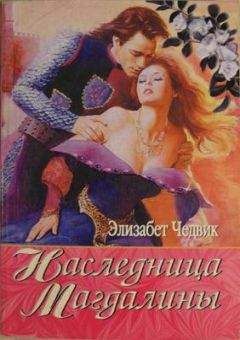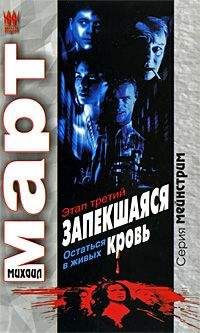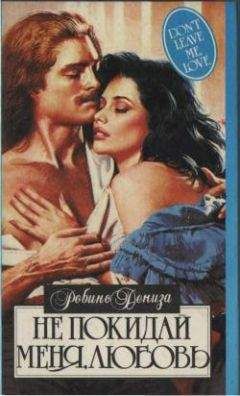— Мама, а ты будешь мне сказку рассказывать? — потянула ее за подол платья Магда.
— Буду милая. Спокойной ночи, добрые рыцари.
— И вам того же, госпожа.
Брижит поднялась с постели, стараясь не потревожить обнимавшую ее во сне Магду. За крохотным затянутым бычьим пузырем оконцем брезжили предрассветные сумерки. На дворе Мир и Жиль уже навьючивали на лошадей свой нехитрый дорожный скарб. Рауль вынес из хижины спящего сына и посадил его в седло впереди себя. Брижит протянула ему флягу с холодной водой. Напившись, он с тоскою посмотрел в ее прозрачно-серые родниково-чистые глаза.
— Не знаю, свидимся ли мы когда-нибудь еще, — вполголоса бросил он. Глубокая печаль отображалась на его челе.
— Конечно, свидимся. Надо только надеяться на лучшее и не опускать прежде времени рук. К тому же скоро Магда станет более самостоятельной, и у меня будет побольше свободного времени. Я собираюсь отдать ее учиться в Монсегюр. Там ее научат не только грамоте. Она постигнет всю Мудрость мира.
— Дай бог счастья нашей девочке, — еле слышно прошептал Рауль.
— Свет любит ее, — ответила Брижит.
— До свидания, волшебница. — В добрый путь, рыцарь.
Рауль махнул облаченной в кольчужную перчатку рукой сопровождавшей его свите, и боевые кони, стуча тяжелыми копытами, унесли их в предрассветную мглу.
* * *
Папа Иннокентий III был обозленным на весь мир желчным и немощным стариком. Кто бы мог подумать, что умный и обаятельный итальянский дворянин Лотарь со временем превратится в подобие отвратительной Горгульи. Сейчас он восседал на золоченом троне в просторной зале, где проходил очередной Церковный Собор. На голове папы красовалась расцвеченная драгоценными каменьями тиара, а поверх темной бархатной мантии было накинуто белоснежное, покрытое черными крестами оплечье. В зале преобладали черные и мышино-серые тона.
«Разжиревшие крысы», — подумал про себя де Монфор, вглядываясь в апоплексически-багровые лоснящиеся физиономии аббатов и приоров. Были здесь и ревностные борцы с ересью — монахи-доминиканцы с безумно блещущими очами и их сумасшедший предводитель, фанатик Доминик Гузман.
— Доминиканис — псы господни, — процедил сквозь зубы Симон.
Сегодня был его день, его триумф, его праздник. Он сам спланировал это показное действо и, как подобает талантливому лицедею, соответствующе для него принарядился. На нем блистал красного бархата парижский камзол, расшитый золотыми вставшими на дыбы львами с раздвоенными хвостами, и белый шелковый плащ с алым крестом.
Обо всем было договорено заранее. Симон был дружен с папой еще со времен Иерусалимского похода и теперь, после того как он столь ревностно защитил интересы Рима в Лангедоке, с нетерпением ожидал давно обещанной мзды.
«Старый дурак и впрямь считает, что подобно тому, как луна получает свой яркий свет от солнца, так и власть королей получает свой блеск и великолепие от папского престола, — рассуждал де Монфор. — Что бы делали эти святоши без таких, как я. Рим, видите ли, держит в своих руках ключи неба и управление делами земными. Сущий бред. Острый меч поддерживает папский престол». Взгляд Симона упал на толстую тушу Сито: «Вот еще одна мерзкая жаба думала поживиться плодами моих побед. Не вышло, господин легат».
В противоположном конце зала, ближе к выходу, стоял покаянно преклонивший голову граф Тулузский в окружении более чем скромной свиты во главе со своим молодым наследником. После взятия Тулузы только его святейшество мог решить, какие и кому именно владения оставить, а каких и кого именно лишить. Говорят, что даже сам король французский признавал вассальную зависимость от Рима.
Папа стукнул крученым посохом, и в зале сразу же смолк оживленный гул многочисленных голосов. Все с нетерпением ждали решения папского суда.
— Возлюбленные мои братья, — скрипучим дрожащим голосом загнусавил облаченный в папские регалии старик. — В то время, когда воины христовы несут свет язычникам в далекой Ливонии, когда я уговариваю русских мирян и духовенство возвратить заблудшую Дочь Матери, когда королевство Латинское воздвигнуто в самом сердце Православной Византии, когда невинные Дети, — он смахнул с глаз невольно навернувшуюся слезу, — эти агнцы божьи в священном порыве идут воевать за гроб Господень, находятся мерзкие безбожники и богохульники, покровительствующие врагам Веры Христианской. Уверяю вас, братья. Еретик — он хуже сарацина. А некоторые сильные мира сего, забыв, что всякая власть от Бога, позволяют себе недопустимое. Гнусная ересь расцвела пышным цветом у самых врат святого Рима! — сорвался на крик папа. — Раймон Тулузский! Подними голову, многогрешная Душа, дважды отлученная от церкви! Не ты ли привечал гнусных катаров? А известно ли тебе, что муки Господа нашего Иисуса Христа они считают простой иллюзией?! Какое кощунство. Не ты ли, изменник, публично каявшись, строил козни совместно с королем арагонским против своих же соплеменников французов? Не ты ли повинен в учинении помех крестовому походу, насилии и братоубийстве? Бедствия, войны обрушились на подданных твоих, гибнут старики, женщины, дети. Не ты ли обратил на себя Гнев Господень? Бойся, Раймон, впасть в руки Бога Живого! Я, наместник Господа на земле сегодня здесь, в городе Латран, решил, поскольку ты, многогрешный граф, не смог искоренить богомерзкую ересь в своих владениях: отныне они отходят ревнителю святой веры, предводителю крестового похода против гнусных катаров-альбигойцев барону Симону де Монфору в вечное владение, в том числе и град Тулуза. Сыну твоему Раю, что не несет по малолетству вины за ошибки отца, оставляю Ним, Бокер и Сен-Жиль-на-Роне. Отныне барон де Монфор получает от Римского престола следующие титулы — граф Тулузский, виконт Безье и Каркассона, герцог Нарбоннский. И да падет гнев Божий на всякого несогласного с решением нашим. Аминь!
— Аминь! — ответствовал хором зал.
Но граф Раймон и Рай уже не слышали этого. Спешно покинув собрание, они седлали коней. Никогда прежде графу Тулузкому еще не приходилось терпеть подобного унижения.
— Рано радуются, — утешал его Рай, когда они скакали по пыльной дороге к Фуа. — Мы им еще отомстим.
— Отомстим, — бросил еще окончательно не пришедший в себя после пережитого потрясения Раймон. — Как это пел трубадур у нашего нынешнего гостеприимного хозяина: «Имея все, остался на бобах». Отступать нам больше некуда. Не бывать Тулузе под норманнским сапогом!
И они поклялись на мечах непременно вернуться туда, откуда их столь бесславно изгнали: «За Родину! За Тулузу!»