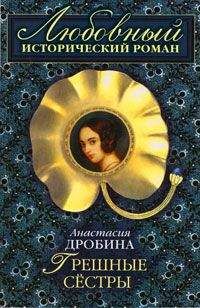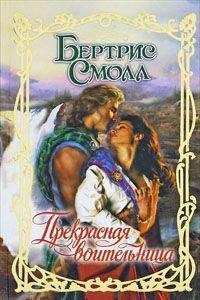Софья тогда не поняла, что имела в виду подруга. Но уже через два дня, когда вечером, в час, совершенно неподходящий для визитов, к ней без приглашения зашел молодой купец Рукавишников и с порога заявил, что он человек деловой и разговоры вести не обучен, а посему – пятьсот рублей в месяц и без счету на булавки, – Софье все стало ясно. Вежливо, спокойно и со всем возможным холодом она указала «деловому человеку» на дверь. Тот ушел разобиженный и, судя по всему, не понявший, почему ему так резко отказывают. Софья посмеялась над этим предложением и быстро о нем забыла. Но через неделю к ней зашел уже не Рукавишников, а председатель Дворянского собрания, граф Игорьев, солидный тучный человек, страдающий одышкой и по возрасту годящийся Софье в деды. Он приехал днем, в приличное время, наделав немало переполоху в нищем переулке, несколько минут разговаривал с растерянной и не знающей, как себя вести, Софьей о погоде и театральных премьерах, а потом, не без брезгливости оглядевшись вокруг, заявил, что подобная обстановка унижает госпожу Грешневу как женщину и как актрису. Указать на дверь графу так же, как купцу, Софья не осмелилась и довольно долго слушала его рассуждения, которые с каждой минутой становились все смелее и откровеннее, поскольку Игорьев принимал ее испуганное молчание за благосклонность. В конце концов граф прямо объявил, что у него семья и множество общественных обязанностей, но внимание юного, прелестного, талантливого существа могло бы значительно скрасить его полную забот и тягот жизнь, а посему он готов оплачивать новую квартиру, украшения, наряды, даже собственный выезд и, более всего, – прекрасные отзывы в газетах. К концу речи Игорьева Софья была близка к обмороку и ради того, чтобы граф побыстрей ушел, сбивчиво пообещала подумать. Тот, видимо, не ожидал такого неопределенного ответа и попрощался довольно сухо, заверив, впрочем, что решения «молодой богини нашей сцены» будет ждать с нетерпением. Закрыв за ним дверь (Марфы, к счастью, не было дома), Софья выпила полфлакона лавровишневых капель и помчалась к Мерцаловой.
Та выслушала не перебивая. Спокойно спросила:
– А ты чего же хотела? Дело обычное, житейское. С графом – это тебе повезло. Мой совет – соглашайся скорее, пока не передумал. Ты молодая, красивая, много с него возьмешь, пока надоешь.
– Маша! – взмолилась Софья, вскочив с табуретки. – Да что ты говоришь такое! Да… как же ты так спокойно об этом… Господи, что же мне делать?!
– Зачем же ты в актрисы шла? – не меняя тона, поинтересовалась Мерцалова. – Нам ведь святыми быть просто… м-м… нелепо. Столичные премьерши и те на содержании живут, а уж нам… Ты подумай, как жизнь у тебя сразу наладится! Из переулка этого проклятого съедешь, своих лошадей заведешь, будешь, как царица, ходить! Только на платья не траться, вещами бери – серьгами, кольцами… Платья потом в четверть цены ростовщикам уйдут, а с вещиц еще долго жива будешь.
Софью передернуло. Несмотря на свое долгое пребывание в театральной труппе, она до сих пор не могла привыкнуть к этим вольным разговорам и откровениям. Здесь никто не скрывал, что каждая известная актриса имеет не менее известного покровителя, а те, кто не имеет, мечтают об этом денно и нощно. Молоденькие актрисы с легкостью шли на содержание к купцам; отхватить дворянина, да еще со средствами, считалось неслыханной удачей; как легенды, ходили истории о том, что наиболее красивым и умным актрисам удавалось даже склонить своих обожателей к женитьбе. Но сама Софья таких удачливых особ в театре Гольденберга не видела и посему этим рассказам не особенно верила. Про себя она не судила подруг по сцене, вспоминая сестру Анну, пустившую по ветру свою репутацию, когда в семье стало нечего есть, и себя саму, которую только чудо спасло от сожительства с проезжим купцом Мартемьяновым. До сих пор, вспоминая это темное, нахмуренное лицо и черные, пьяные, без блеска глаза, в упор рассматривающие ее в кабаке Устиньи, Софья чувствовала холод на спине. Но она пошла бы… Видит бог, пошла бы, потому что… Потому что денег не было, и дров не было, и платить долги было нечем, и выкупать закладные на дом, и пахать весной тоже было не на что… Что тут говорить.
Так что не ей, Софье Грешневой, быть судьей этим женщинам, тоже месяцами живущим впроголодь, когда нет ангажемента или выгодных ролей, без мужа, без поддержки родни. Но привычные между актрисами, равнодушные или же, напротив, деловито-озабоченные разговоры о подарках поклонников, о том, чем лучше брать, «вещами» или «отрезами», как сделать так, чтобы благодетель стал пощедрее и подарил побольше или подороже, вызывали у нее неизменную гадливость. Софья всеми силами старалась скрывать это чувство, понимая, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но сейчас притворяться было выше ее сил, и она, отвернувшись, отрывисто сказала:
– Противно мне, Маша. Не могу так.
– Всем поначалу противно, – неожиданно серьезно и понимающе сказала Мерцалова. – А потом и ничего. Еще противней будет, когда разобидится вот такой папашка, с антрепренером договорится, с газетчиками тоже, всем заплатит, тебя со всех ролей снимут, бенефиса, хоть убейся, не дадут, в рецензиях гадости про твою бездарность писать начнут, и контракт дирекция прервет. Куда вот ты тогда денешься со всей своей гордостью? Хорошо, если семья есть…
– Да… – глухо отозвалась Софья, отворачиваясь к окну. – Да… Семья…
Мерцалова пристально смотрела на нее. Затем негромко спросила:
– У тебя есть, может быть, кто? Для него бережешься?
Софья молча покачала головой, сдерживая подступившие к горлу слезы. Больнее жестких, но справедливых слов подруги, больнее сомнительных предложений, больнее вновь надвигающейся опасности остаться без гроша были неотвязные мысли о том, что Черменский так и не приехал. Месяц прошел – а он… И – ни одного письма.
Первые дни после известия от Черменского, совпавшего с премьерой «Гамлета», Софья ходила как в чаду, постоянно повторяя про себя строки письма Владимира и ожидая, ежеминутно ожидая, – вот откроется калитка из переулка… или распахнется дверь… или скрипнет дверь театральной уборной… И он войдет. И серые светлые глаза снова посмотрят внимательно и чуть насмешливо с темного лица, и жесткие ладони возьмут ее руку, и хрипловатый, такой спокойный голос скажет: «Здравствуйте, Софья Николаевна… Вы ждали меня?» При мыслях об этом Софья задыхалась от счастья и молила бога о том, чтобы время шло быстрее. Но оно и так летело, как на крыльях, дни мелькали один за другим, будто спицы в колесе, а Владимир… не появлялся. Неделя счастливого ожидания сменилась тревожными днями, с утра до ночи Софья отчаянно гадала: почему же он не едет? И не пишет? Что случилось? Здоров ли? Потом прошло и это: беспокойство перешло в тоскливое безразличие. Понемногу Софья начала думать о том, что Черменский никогда не приедет за ней. Только одно было ей непонятно: что побудило его написать это письмо с несколькими отчаянно перечеркнутыми строками? Только это письмо, время от времени вытаскиваемое из комода, из-под вороха сложенного белья и тщательно перечитываемое в поисках нового, может быть, не замеченного ранее смысла, и уверяло Софью в том, что та морозная ночь в ожидании счастья была не сном.