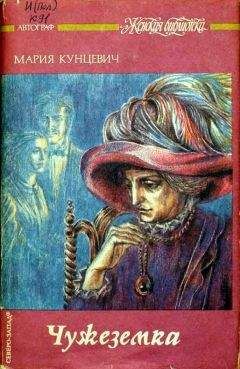Воскресные зеваки, желая разглядеть, кто и откуда приехал, медленно приближались к машинам. Мы с Михалом стояли в стороне. Профессор помог Кэтлин сесть в машину и теперь обратил свое внимание на меня:
— Миссис Бёрнхэм, вы великолепно выглядите, видно, почки не доставляют вам больше хлопот. Надеюсь, мы теперь будем чаще видеться! — И поцеловал мне руку.
С Михалом он не поздоровался. Профессор стоял перед ним, опершись обеими руками о палку, и, может быть, не мог найти нужных слов. Наконец он поднял на него взгляд, в котором радость была смешана с болью.
— Попутного ветра, мой мальчик! Чем я могу тебе быть полезен?
Я видела, что Михал едва сдерживался, чтобы не броситься ему в объятия.
— Спасибо, профессор, мне ничего не нужно. — И отвернулся.
Эрнест открыл дверцы «морриса», профессор сел за руль «роллс-ройса», Кэтлин рядом с ним. Затарахтел мотор, силы были на исходе, я чувствовала, что Михала бьет дрожь. Вдруг боковое стекло «роллс-ройса» опустилось, в окне показалась голова Кэтлин, освещенная косо падавшими лучами, она казалась огненной. Михал рванулся, машина засигналила, Брэдли нажал на газ. Голова в окне светилась, как факел, отдалялась, становясь все меньше и меньше, пока наконец на повороте ее не заслонил «моррис». Михал пробежал несколько шагов и остановился. Я догнала его.
— Расстались, не попрощавшись, — вздохнула я.
Лицо у Михала было хмурым, точь-в-точь таким же, как несколько часов назад.
— Ну да, — буркнул он, — мы никогда не расстанемся.
Из Пара мы вернулись рано, и Михал сразу же стал ждать звонка. Моих слов он не слышал, от ужина отказался и с ломтем хлеба и кружкой молока сел за стол возле телефона. Время шло — и по лицу его пробегала гримаса боли. Наконец часов в десять я услышала звонок и тихое «алло», произнесенное хриплым от волнения голосом. Михал говорил тихо, я подошла поближе к дверям кабинета. «Ну, конечно, конечно, — говорил он, — я подожду. Если что не так, ты сразу приезжай сюда. К тебе? За сережкой?.. Ты с ума сошла. Зачем мне сережка? Милая моя, глупая… Вместо сережки пришлю телеграмму на Подружкин адрес…» Потом сердито: «Счастлив, несчастлив… Сегодня счастлив, завтра несчастлив». А еще через минуту с нежностью: «Ну ладно, ладно, завтра в восемь в беседке. Буду — точно».
Он вышел на кухню сияющий и, не дожидаясь вопроса, сообщил:
— Все хорошо, но она просит, чтобы я подождал с отъездом, пока ситуация не прояснится. Эрнест и миссис Мэддок еще там, она их боится.
— Ну, а профессор, профессор как?
— Ах, это! Да нет, с профессором все о'кей. — Тон у него был беззаботно-равнодушный. — Она больше обо мне беспокоится. — Он рассмеялся. — Понимаешь, у нее есть любимые сережки. И она хочет одну оставить себе, а другую дать мне. Если я верну сережку — значит, мне плохо, она бросит все и приедет.
Михал беспомощно развел руками — ничего, мол, не поделаешь, женская логика. И, уплетая ветчину с горошком, продолжал:
— Кася все время думает, что мне плохо. Это у нее мания. Пока похоже на то, что она и полдня без меня не может обойтись.
На другой день он укладывался в дорогу, пел, насвистывал, показывал какое-то иллюстрированное издание по американской архитектуре, звонил в Лондон в бюро путешествий, перевел оплаченный чек на билет, гладил брюки и одновременно все прислушивался и частенько выбегал на террасу, откуда видно было шоссе. К вечеру он исчез, вернулся поздно ночью. И снова невольно вспомнилось зловещее предание — тайный визит Тристана в замок Тинтажел, вскоре после примирения короля Марка с Изольдой.
Рано утром я услышала в комнате Михала шаги, приоткрыла дверь, вошла. Он стоял у стола неодетый, взлохмаченный и взвешивал на ладони что-то крохотное и блестящее. Лениво повернул голову ко мне:
— Вот смотри, что она дала…
Это была сережка. Большая бриллиантовая слеза, оправленная в платину.
— Как ты мог это взять? Ведь это же целое состояние!
— А что, я не знаю, что ли? В Лондоне она то и дело собиралась их продать, а я не давал.
— Зачем же сейчас взял?
Он зевнул.
— Зачем? Спроси об этом Касю.
Со мной иногда бывает, что все мысли улетучиваются, со всех сторон меня окружает пустота и даже собственный голос кажется чужим.
— Не смей от меня отмахиваться, как от назойливой мухи! Я хочу знать, почему ты принимаешь в подарок драгоценности от женщины, которую сделал несчастной!
Он посмотрел на меня с удивлением:
— Это я? Я сделал Касю несчастной? — Сел на заваленный вещами диван и обхватил руками голову.
Целых два дня мы провели с ним за разговорами, и чем больше я узнавала своего сына, тем меньше понимала, как мне быть. Я часто считала его циником и даже лицемером. Но ни циником, ни лицемером он не был. Просто, пережив в Польше тотальную войну, он уже не верил, что существует общечеловеческий язык и общее определение человеческих поступков. Не верил, несмотря на всю свою «хитрость», что можно как-то управлять своей судьбой, своими и чужими страстями. Даже Анна, которую повесили за ноги и у которой «кровавое месиво вместо лица», по его мнению, руководствовалась не какими-то нравственными принципами, а ей просто «так больше нравилось».
— Хорошо она поступила? — спрашивала я.
Он пожимал плечами.
— Не знаю. Я перед ней преклоняюсь. Я за нее отомстил. Но я хочу жить.
— Причиняя зло другим?
Он вскипел:
— Разве я хотел профессору зла? Вовсе нет! И это не ложь: мы ничего плохого не сделали. Мама! — кричал он. — Таким добрым, каким я был для Каси, я ни для кого никогда уже не буду! На кого этот старик злится? Он ведь, кажется, ее любит, значит, должен желать ей добра! Скажешь, нет? — Он бегал из угла в угол. — Как ты можешь говорить, что я сделал Касю несчастной? Эта сережка — память о том, что я готов был возить мусор, лишь бы она не продавала сережки. Вчера она плакала, когда мне ее отдавала.
У меня оборвалось сердце.
— Ты возил мусор?
— Ну и что с того? Возил — значит, нравилось. И нам было хорошо.
— Потому что она много зарабатывала.
Тут он рассвирепел.
— Мне вовсе не нужны были ее заработки! Ей хотелось покупать всякие там статуэтки, ананасы, и она пошла работать. На хлеб и моих помоечных денег хватало.
Я заметила на плече у Кэтлин шрам. Знала я и про историю с часами.
— Если вам было так хорошо, почему же вы расстались? — спросила я.
— Кто сказал, что мы расстались? — возмутился он. — Даже у супругов случается, что муж путешествует один.
— А жена в это время живет с другим? — съязвила я и тут же пожалела об этом. Ждала, что Михал рассердится, но он повернулся ко мне спиной и, сунув руки в карманы, долго глядел в окно на залив, а потом голосом усталого старика повторил слова, которые я уже слышала: