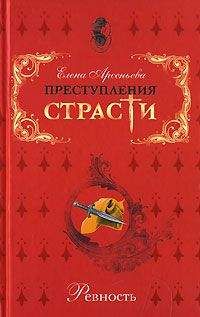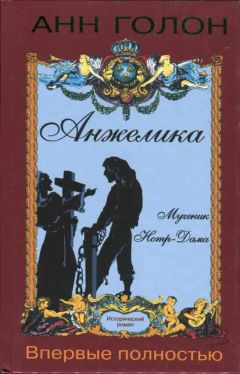До нее докатился глухой рокот толпы, перекрываемый тяжелым, зловещим колокольным звоном, возвещавшим о казни. Анжелика бежала. Она так и не поняла, откуда у нее взялась нечеловеческая сила, чтобы пробиться сквозь плотные ряды зевак и оказаться в первых рядах, у самой паперти.
В тот же миг над площадью пронесся протяжный вопль толпы, возвестивший о приближении осужденного. Люди стояли настолько плотно, что процессия едва двигалась, и помощники палача пытались расчистить путь, разгоняя людей ударами кнута.
Наконец показалась маленькая деревянная повозка. Это была одна из тех грубых телег, в которых вывозили нечистоты со всего города. Даже сейчас на ней еще виднелись налипшие грязь и солома.
Над позорной повозкой возвышалась фигура палача. Мэтр Обен стоял, подбоченясь, в красных сапогах и красном балахоне, с городским гербом на груди, и тяжелым взглядом оглядывал исступленную толпу. На борту повозки сидел священник. Колдуна не было видно, и народ кричал, требуя показать его.
— Он, наверное, лежит на дне телеги, — сказала женщина, стоявшая рядом с Анжеликой. — Говорят, полумертвый.
— О, надеюсь, что нет! — внезапно воскликнула другая ее соседка, прелестная розовощекая девушка.
Между тем телега остановилась около огромной статуи Великого Постника. Конная стража, с алебардами наперевес, удерживала людей на расстоянии. На паперть поднялось несколько полицейских, окруженных монахами различных братств.
Движением толпы Анжелику стало теснить в задние ряды. Но она, крича и царапаясь, как фурия, отвоевала свое место.
Внезапно все притихли, в воздухе висел лишь тяжелый похоронный звон. У паперти появился и стал подниматься по ее ступеням какой-то призрак. Затуманенные глаза Анжелики видели только светящийся белый силуэт. Только сейчас она осознала, что одна рука осужденного обвита вокруг шеи палача, другая — вокруг шеи священника, и они его попросту тащат, а сам он даже не переставляет ног. Голова с длинными черными волосами свесилась на грудь.
Впереди с огромной свечой в руках шел монах; ветер то и дело пригибал язычок пламени, и монаху приходилось пятиться задом наперед, чтобы не дать свече погаснуть. Анжелика узнала Конана Беше. Его лицо, лицо фанатика, было искажено злорадным восторгом и торжеством. На шее у него висело тяжелое белое распятие, болтавшееся почти на уровне колен и то и дело заставлявшее его спотыкаться. Из-за всего этого казалось, что он исполняет перед осужденным фантастический танец смерти.
Процессия двигалась медленно, как в кошмарном сне. Наконец, поднявшись на паперть, осужденный и сопровождающие остановились перед порталом Страшного Суда[65].
С шеи смертника свешивалась веревка. Из-под белой рубахи виднелась босая нога: он стоял босиком на ледяных плитах.
«Это не Жоффрей», — подумала Анжелика.
Это был не тот мужчина, которого она знала, — утонченный и жизнерадостный. Сейчас перед ней был мученик, один из тех несчастных, которых приводили сюда «босыми, в одной рубахе, с веревкой на шее»…
Тут Жоффрей де Пейрак поднял голову. На его измученном, бледном, изуродованном лице жили только огромные черные глаза, и они сверкали мрачным огнем.
Какая-то женщина пронзительно взвизгнула:
— Он смотрит на меня. Он меня заколдует!
Но граф де Пейрак не глядел на толпу. Он смотрел прямо перед собой, на старые каменные статуи святых, установленные перед серым фасадом собора.
Какую молитву он им возносил? Что они ему обещали? Видел ли он их вообще?
По левую сторону от осужденного встал секретарь суда и гнусавым голосом принялся зачитывать приговор. И хотя колокольный звон прекратился, все равно слова было трудно разобрать.
— …За совершенные преступления: похищение людей, обольщение, кощунства… колдовство… передать в руки палача высшего сеньориального суда… с непокрытой головой и босыми ногами… принести публичное покаяние… держа зажженную свечу в руках, на коленях…
Только увидев, что секретарь сворачивает пергамент, зрители поняли, что он закончил читать.
Конан Беше произнес предписанную формулу публичного покаяния:
— Признаю себя виновным в преступлениях, в которых меня обвиняют. Прошу Господа простить меня. Принимаю наказание во искупление своих грехов.
Свечу держал священник, так как осужденный не мог поднять ее сам.
Все ждали, что колдун заговорит. Толпа теряла терпение.
— Ты рот-то откроешь, дьявольский приспешник?
— Не хочется гореть в аду вместе со своим хозяином-Сатаной?
И тут Анжелика поняла, что ее муж собирается с последними силами. Его мертвенно-бледное лицо словно ожило. Он оперся на плечи священника и палача и выпрямился, так что стал казаться выше даже мэтра Обена. И еще до того, как он произнес хоть слово, любовь подсказала Анжелике, что он сейчас сделает.
В морозном воздухе разнесся глубокий, проникновенный, чудесный голос.
Золотой голос королевства пел в последний раз.
Он пел на провансальском языке беарнскую песню, известную Анжелике.
Les genols flexez am lo cap encli
A vos reclam la regina plazent
Flor de las flors, nou Jhesus pres nayssenca
Vulhatz guarda la cientat de Tholoroza…
Лишь одна Анжелика понимала слова:
…Согнув колени, преклонив главу,
Судьбу свою я вам дарю, царица,
Молю, храните родину мою,
Цветок любви и древнюю столицу…
Тулуза! Юга нежная обитель.
Ты божья колыбель, цветущий рай,
Благословил тебя Спаситель,
Венец короны, милый сердцу край.
Ты трубадура преданная муза!
Цвети всегда, любимая Тулуза.
Боль острым кинжалом пронзила Анжелику, и она не сумела сдержать крик.
Этот отчаянный крик стал единственным звуком в наступившей внезапно зловещей тишине, ибо голос певца умолк. Монах Беше выбросил вперед руку с распятием из слоновой кости, ударил осужденного по губам — и его голова снова упала на грудь. Струйка крови побежала от разбитой губы по подбородку и капнула на паперть. Но Жоффрей тут же снова выпрямился.
— Конан Беше! — тем же чистым и громким голосом воскликнул он. — Я назначаю тебе встречу через десять дней перед судом Господним!
По толпе пробежала дрожь ужаса, и неистовые вопли заглушили слова графа де Пейрака. Зрителей захлестнули ярость и неистовое возмущение. И вызвал их не поступок монаха, а высокомерие осужденного. Никогда еще не случалось подобного скандала на паперти собора Парижской Богоматери! Петь!.. Он осмелился петь! И ладно бы еще псалом! Но осужденный пел на незнакомом, дьявольском языке… И не видно было, чтобы он раскаивался; он еще и отдавал приказы своим мучителям.