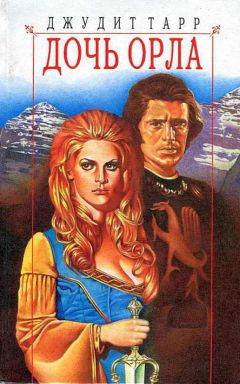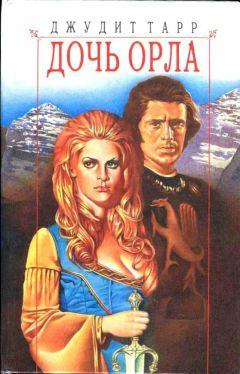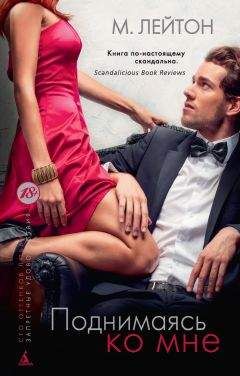Глаза Мехтильды стали совсем круглыми. Немного погодя Аспасия увидела, как она что-то рассказывает Рольфу, и оба косятся на Исмаила.
Он привык, что на него пялятся. Никто не мог удержаться от этого, где бы он ни появился. Он сидел один на конце стола, ему прислуживал его собственный слуга, не подпуская услужить других. В этом месте, среди этих людей, в чистом белоснежном одеянии и в тюрбане он выглядел неправдоподобно.
Ее место пустовало. С точки зрения местных людей, она уклонилась от своих обязанностей хозяйки. Если бы это было в Кордове или в Константинополе, где женщины и мужчины не садятся за общий стол…
Он ничего не сказал. Он ел аккуратно, со своими изящными арабскими манерами. Когда с ним заговаривали, он отвечал по-саксонски с арабским акцентом. Он ни разу не повернулся, чтобы взглянуть на нее, когда она проходила по залу, суетливо и взволнованно.
Делать было нечего. Ей пришлось сесть за стол. У нее исчез аппетит, она только выпила вина. Конечно, оно сразу ударило ей в голову. А может быть, тому виной было его присутствие. Его не должно было быть здесь. Он не мог быть здесь. Сейчас она откроет глаза, и будет утро, и все окажется сном.
Все закончили есть. Аспасия должна была остаться в зале и побеседовать с гостем, пока женщины уберут со стола и расставят все по местам. Со спутниками Исмаила все было просто: они уже нашли общие темы для разговора с мужчинами, а девушки заинтересовались солдатами, один из которых был весьма недурен собой, а другого украшали многочисленные шрамы. Он им говорил, что получил их на войне. Не на этой, последней, а на предыдущей.
Ее голос нарушил молчание. Поскольку стол убрали, Исмаил устроился так близко к огню, как только мог.
— В такую погоду, — сказал он, — и сам морской дьявол взвоет.
— Германская погода, — отвечала Аспасия, — говорят, в Англии еще хуже.
— Хуже некуда. — Он протянул свои тонкие руки к пламени, поворачивал их, согревая.
— Это императрица послала тебя?
Он не вздрогнул, не запнулся, даже не взглянул на нее.
— Она не запретила мне ехать.
— Ты ее видел?
Он кивнул:
— Она здорова. Она не нуждается во мне. Иначе бы я остался. — Он помолчал. — Ей нужно было бы только прислать за мной, и я бы сразу пришел. Я ее не оставлю.
Аспасия вся кипела. Она стиснула руки на коленях и сжала губы.
Он снова уселся на свой стул. Он выглядел великолепно невозмутимым. Блеск в его глазах был просто отсветом огня.
— Зачем ты приехал? — спросила Аспасия. Требовательно. Почти ненавидя себя за это.
— Куда еще мне было деваться?
— В Египет.
Он резко покачал головой.
— Тогда Рим. Аахен. Магдебург.
— Ни в одном из этих мест не было тебя.
Он сказал это по-арабски. Его родной язык, который они сделали языком своей любви в стране, где никто другой не знал на нем ни слова.
Она отвечала по-саксонски:
— А как же моя честь?
— Тебе хранить ее, — сказал он опять по-арабски. — Если ты отошлешь меня, я уеду.
— Если… Это ты оставил меня, — сказала она по-арабски. — Не я.
— Я думал, что смогу быть сильным. Я был глупцом.
— Да.
Он взглянул на нее. Первый раз с тех пор, как вошел в ворота. Ее бросило в жар, в холод и снова в жар.
— Если ты скажешь, чтобы я уехал, — сказал он, — я уеду.
— А если скажу, чтобы остался?
Его щеки стали темнее, чем это предусмотрела природа.
— Ее величество сказала… что бы ты ни сделала, кроме разве измены короне, это место принадлежит тебе. Она никогда не отберет его у тебя.
У Аспасии перехватило дыхание.
— Ты думаешь, мне это так важно?
— Не для твоего решения, — сказал он, — нет. Может быть, для твоего душевного равновесия.
— Там, где ты, не бывает равновесия и спокойствия.
— Тогда я уеду, — сказал Исмаил.
Она поднялась. Неожиданно она почувствовала себя совершенно разъяренной.
— Не говори этого. Этого не говори. Никогда. Ты слышишь меня?
— Я слышу, — отвечал он. — Я не оставлю тебя снова. Если только ты сама этого не захочешь.
— Значит, ты никогда не покинешь меня.
— Иншалла, — отвечал Исмаил.
В эту осень и зиму в душе Аспасии царила весна. Они с Исмаилом жили сначала во Фрауенвальде, а на Рождество при дворе. Феофано ничего не сказала, когда Аспасия приехала в Магдебург вместе с Исмаилом; серый мул и арабская лошадь шли рядом в привычном согласии. Аспасия сама тоже не касалась этого предмета. Молчание было достаточно красноречивым; и присутствие Исмаила в свите императрицы не вызывало вопросов.
Феофано была снова беременна. Аспасии казалось, что это ее не особенно радует. Но она надеялась и осаждала небо молитвами о ниспослании ей сына. Ее муж тоже часто молился вместе с ней. Он возвратился из Франции с массой новых идей, главной из которых было отправиться в Италию.
— Настало время, — говорил он, — поглядеть, что делается в другой части моей империи. Франки больше не придут. Мятежники сидят за крепкими решетками. На востоке защитников достаточно. Когда наступит лето, я перейду Альпы и напомню итальянцам, что у них есть император.
Германцам не нравились такие речи. Они хотели, чтобы император оставался с ними.
— Как будто, — сказала Феофано, — можно иметь всегда и императора, и империю.
Империи был нужен наследник. Наследник мог бы иметь титул одного из королевств, пока его отец правил бы другим. Оттон не стал бы поступать со своим сыном так, как поступил его отец с ним, удерживая всю власть в своих руках и не давая ничего сыну.
— А почему, — желала знать София, — я не могу быть наследником?
Во время рождественских праздников она все время была рядом с Аспасией, решив, что тетка должна всецело принадлежать ей. Ее мать смирилась с этим. Только так можно было сохранить мир, который был большой редкостью там, где находилась София.
София задала вопрос на уроке латыни, который Аспасия, как и другие уроки, по ходу дела дополняла обучением тому, как должна вести себя принцесса.
— Так почему, — настаивала София, не получив немедленного ответа, — я не могу?
— Потому, что ты принцесса, — ответила Аспасия, — а не принц.
— Какая разница? Я больше, чем некоторые мальчики, и сильнее. И красивее. Я могла бы быть королем. Я бы хорошо справилась.
Несомненно, она бы справилась. Она во всей полноте унаследовала характер своего великого деда Оттона и многое — от своей матери-византийки. Аспасия понимала, что безнадежно пытаться убедить эту царственную умницу, что тело женщины неизбежно определяет и место женщины.