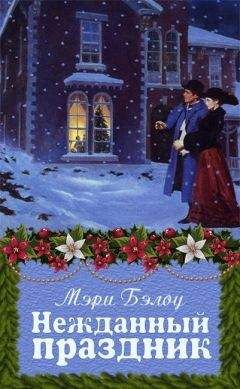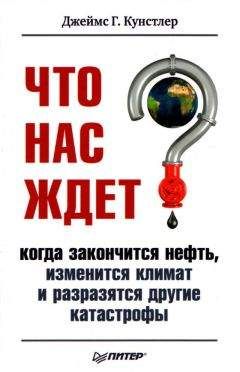И крепко сжатым кулаком погрозил своему невидимому врагу.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной.
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
(Из старинного романса)
В городе буянила весна — широко, разгульно, весело. Приветствуя ее, не смолкали воробьи, пережившие зиму, собирались в стаи, облепляли деревья и устраивали такой галдеж, что звенело в ушах. Румяным масляным блином катилось по небу солнце, словно напоминание о недавней масленице, которая отшумела столь громко, что новониколаевцы, вступая в долгий Великий пост, только покачивали головами, вспоминая свои недавние застолья, винопитие и чревоугодие. Последнее до того доводило, что иных обжор приходилось катать животами на круглых поленьях, дабы переполненные кишки не завернулись.
Но все в прошлом, ныне — пост. И колокола на соборе Александра Невского вздыхают строго и печально: ди-и-нь, до-о-н, ди-и-нь, до-о-н…
Самое время поразмыслить о жизни своей грешной, о суете мирской и переломить натруженную спину в низком поклоне перед святыми иконами.
Ди-и-нь, до-о-н, ди-и-нь, до-о-н…
Тянулись подводы, груженные кирпичом, лесом, известью, тесом, бревнами, кровельным железом и черепицей, — молодой город строился. Основательно, быстро. После жуткого пожара, полыхнувшего несколько лет назад и буквально слизнувшего за считанные часы деревянные кварталы, теперь старались ставить больше каменных зданий, брандмауэры для защиты от огня, а крыши крыли железом и черепицей.
Боялись пожаров новониколаевцы, помня горькие дни, проведенные на пепелище.
А еще помнили тех, кто оказал помощь в беде. Бывшего Томского губернатора Гондатти произвели в Почетные жители и не забывали посылать в Хабаровск, где он теперь пребывал генерал-губернатором, поздравительные телеграммы: «Гласные Думы поздравляют Ваше Превосходительство с днем Вашего ангела и шлют Вам наилучшие пожелания и глубоко сожалеют, что сегодня, шестого декабря, на торжественном молебствии и освящении торгового корпуса они не будут иметь счастье видеть дорогого гостя, которому так много обязан молодой город своим благополучием».
Помнили новониколаевцы и доброе отношение к себе Государя Императора Николая Александровича и даже обращались к нынешнему Томскому губернатору с такой просьбой: «Новониколаевцы просят Томского губернатора повергнуть к стопам Его Императорского Величества Государя Императора их верноподданские чувства глубочайшей любви и беспредельной преданности обожаемому Монарху, соизволившему неоднократно явить свою щедрую Высочайшую Милость юному городу, благодаря которой он быстро оправился от постигшего бедствия 11 мая 1909 года и не останавливается в своем развитии и процветании на пользу Отечеству».
И не останавливался.
За короткий срок встали городской торговый корпус, двенадцать двухэтажных школ, появилась своя электростанция, достраивалось коммерческое собрание, заработали две первые водокачки, и даже появилась собственная кинематографическая картина «Виды Ново-Николаевска», которая демонстрировалась с неизменным успехом в местном кинотеатре.
Каждый день случалось что-то новое, необычное, но очень скоро становилось привычным, потому как новости в городе очень быстро сменяли одна другую. Давно ли купец Маштаков купил своему отпрыску первый автомобиль, давно ли купеческий сынок появился на Николаевском проспекте на своем рычащем и воняющем керосином чудовище, приводя в трепет городских извозчиков, потому как лошади при виде и звуке автомобиля приходили в совершенное неистовство и не слушались ни узды, ни кнута, ни заполошных голосов своих хозяев? Грозились поначалу извозчики даже побить молодого Маштакова, но руки не дошли, а затем — ничего, привыкли. И даже лошади больше не брыкались, когда катил им навстречу громко гудящий «Даймлер» германского производства.
Не зная удержу, летела бойкая жизнь молодого города — вперед, вперед, вперед…
Только колокола храма Александра Невского голоса своего не меняли и напоминали о вечном:
— Ди-и-нь, до-о-н, ди-и-нь, до-о-н…
2Пришла беда — отворяй ворота. А еще говорят, что она, беда, в одиночку не куролесит, всегда за собой подружек тащит. Но удача тоже не лыком шита: уж коли расщедрится — хоть мешок подставляй.
Примерно так размышлял пристав Чукеев, возвращаясь из Усть-Ини.
Возвращался он с большой удачей: в кошевке сидела рядом с ним перепуганная донельзя и зареванная до красноты в глазах Анна Ворожейкина. Чукеевский агент все-таки выследил ее, когда она решилась, несмотря на строжайший запрет Николая Ивановича, наведаться к вдове — очень уж хотелось ей узнать: нет ли каких новостей, не объявлялся ли этот строгий господин с Кузьмой? Вот и узнала… Агент выждал, проводил ее до бабкиной избушки, где она пережидала лихое время, дал знать Чукееву. Тот, не медля, кинулся в Усть-Иню и схватил Анну, можно сказать, тепленькую — она на широкой печке, за ситцевой занавеской, ютилась.
Теперь он цепко держал ее за руку, поторапливал Балабанова, сидевшего на козлах, прижмуривался, как сытый кот, от яркого солнца и предвкушал свое появление вместе с девицей в кабинете Гречмана.
Жизнь, так казалось сейчас Модесту Федоровичу, налаживалась. Да и сколько можно ей, капризной, поворачиваться к нему только черствым и черным боком? Не успел он очухаться после конфуза в оружейном магазине Порсевых, как те же самые архаровцы сотворили с ним злую насмешку в доме на Инской улице. Хорошо еще, что о втором случае не проведал Гречман, не то… Чукеев поморщился, будто ожидал затрещины. Домашний же скандал с супругой, когда он появился в доме, распятый ухватом, пристав во внимание не брал, тем более что супруга после его рассказа и клятвенных заверений, кажется, поверила. И как было не поверить, если Модест Федорович, морщась от разламывающей боли в застывшем мужском хозяйстве, рассказывал ей истинную правду.
О том, что на колыванском базаре он упустил горничную Шалагиных, Чукеев никому не рассказал.
Но нынче все позади. Нынче, слава те господи, удача в руки пошла.
Вот и Барнаульская улица, высокое крыльцо в шесть высоких ступеней, узкий полутемный коридор и просторный кабинет — принимай подарок, господин полицмейстер!
Гречман сидел за столом без мундира, в одной нижней рубашке, нещадно курил и что-то быстро, сердито диктовал писарю Плешивцеву. Тот строчил пером по бумаге, а свободной рукой смахивал со лба усердный пот. Увидев в дверях Чукеева с Анной и недовольно поморщившись, Гречман остановился на полуслове, затем скомандовал: