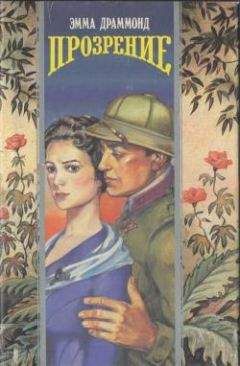– Англичане не стоят даже моего плевка, – бросил он. – Они наши враги.
– Я прекрасно знаю, что это за люди, – произнесла Хетта, стараясь сохранить собственное достоинство.
– А я знаю, что это не люди. Они рядятся в красивые одежды, как бабы, их кожа мягкая и белая, потому что они прячутся от солнца. От них даже пахнет, как от женщин, – этот запах так же противен, как и они сами, бледные, изнеженные создания. У них даже нет бороды! Разве их можно назвать мужчинами?
Еще крепче сжав ее запястье, так, что она почувствовала страх, Стеенкамп продолжил:
– Пусть щеголяют в своих изысканных платьях, пусть гарцуют на своих стройных лошадках – недолго им осталось любоваться самими собой! Еще немного – и мы поставим их на колени, а потом – растопчем! Вот увидишь: во всей их «победоносной» армии не найдется ни одного солдата, способного проскакать целый день по нашей степи. Они будут погибать от зноя и жажды, а мы будем спокойно наблюдать за этим; они будут тонуть в наших реках; их тяжелая артиллерия завязнет в наших болотах, а их изящные лошадки через какую-нибудь неделю после начала боевых действий превратятся в живые скелеты, не способные носить на своих спинах всадников.
Пит начал трястись от возбуждения – его дрожь передалась Хетте, которую он по-прежнему держал за руку.
– Они хотят завладеть нашей землей – что ж, пусть попробуют! Они могут презирать нас и наш язык, но вскоре им придется разговаривать с другим собеседником—с нашей степью, и она заставит их раскаяться в своей гордыне! Эта земля принадлежит нам – такова воля Божья. Горе тому, кто попытается покуситься на наше достояние – он навлечет на себя Божий гнев.
Пит резко оттолкнул от себя Хетту и добавил:
– Горе этим чужеземцам и всем тем, кто посмеет якшаться с ними! Запомни хорошенько эти слова, женщина!
Не сказав ни слова на прощание, Пит вскочил в седло и ускакал. Хетта долго еще стояла во дворе, вглядываясь в темноту и потирая онемевшее запястье.
Необъятное небо простиралось над бескрайними просторами степи. Их маленькая ферма казалась затерянной точкой среди этой степи, расстилавшейся до самого горизонта. До Ландердорпа отсюда было четыре часа езды, а до фермы Стеенкампов – два с половиной. Там дальше проходила трансваальская граница. С другой стороны лежала обширная холмистая долина, сплошь изрезанная реками, – суровая земля, где редко встречалось жилье и где путник не мог рассчитывать на гостеприимство вплоть до дороги на Ледисмит.
Хетта смотрела в этом направлении – по щекам ее струились слезы. Холодная ночь сомкнулась вокруг нее, когда она быстро подошла к углу ограды, словно эти десять Шагов по направлению к Ледисмиту могли действительно приблизить ее к нему. На мгновение девушка прикрыла глаза, влажные ресницы сомкнулись, и она смахнула дрожавшие на них слезы.
Вот уже целых два месяца Хетта жила воспоминаниями о том несчастливом дне. Там, у Чертова Прыжка, она доверилась человеку с печальными глазами – глазами, которые оставались печальными вопреки напускной веселости его улыбки. Она полюбила этого доброго человека, чьи прикосновения были нежны, а слова честны. В течение нескольких недель она была свидетелем его возрождения к жизни, и причиной этого возрождения была она. В то утро он открыл ей свою душу, и она видела и его слабость, и его силу. Он был правдивым и любящим, как никто другой, и за это она полюбила его еще сильнее.
Но именно в этот день между ними встала холодная красавица в отороченной мехом одежде, носившая на руке кольцо, сиявшее в солнечных лучах. Это была настоящая леди, вроде тех, что Хетта видела в детстве в Ледисмите. Они носили светлые юбки, волочившиеся по земле, как будто пыль не могла пристать к ним. Хетте еще ни разу в жизни не доводилось встретить женщину с таким прекрасным лицом. Но черты его были безжизненны, как у статуи, стоявшей на окраине Ландердорпа.
С тех пор как Хетта уехала от тетки, жившей в Ледисмите, в ее жизни не было ни одной женщины, и ей не с кем было поделиться своими переживаниями.
Но переживания эти довлели над всеми ее чувствами, доставляя Хетте невыносимую боль.
В следующий четверг Ландердорп показался ей обезлюдевшей пустыней. Сначала она надеялась, что Алекс будет ждать ее в условленном месте – неподалеку от Чертова Прыжка. Но уже осталось позади ущелье, а он так и не появился на дороге…
Понадеявшись, что Алекс не смог выехать из поселка из-за каких-нибудь неотложных дел, Хетта долго слонялась по магазинам и складам, вздрагивая при виде каждой зеленой фуражки, пока не натолкнулась на молодого офицера в форме цвета хаки, который при виде ее широко улыбнулся и стал что-то быстро говорить. Смущенная, Хетта не сразу поняла, что это тот самый англичанин, который пытался задержать ее волов в день их знакомства с Алексом.
Офицер поведал ей, что лейтенант Рассел получил приказ уехать в Ледисмит, но сам он был отнюдь не против заменить товарища…
Хетта резко ответила по-голландски, что она не нуждается в его посредничестве и, развернувшись, пошла прочь…
Теперь, стоя на ветру возле деревянной ограды, Хетта с болью думала о том, как сильно изменилась она за эти месяцы: она бросила вызов всем традициям ее народа; она перестала верить тому, чему учил ее с детства Упа; она отказалась слепо верить тому, что говорили бурские мужчины, отказалась покоряться их воле, рискуя быть разоблаченной и жестоко наказанной, – и все это ради него одного. Ради англичанина.
Как легко ей было сейчас видеть всю правду! Как легко и как трудно! Теперь она могла наконец понять, что общего было во взглядах того красивого офицера в мундире цвета хаки и тех троих, что встретились на пути ее повозки, – седого военного и двух дам. Это было высокомерие. Да, англичане смотрели на буров свысока – они действительно считали себя выше их.
Это же высокомерие было присуще и Алексу, и, наверное, именно поэтому так быстро покорилась ему Хетта. Ее покорили тонкие черты его лица, каштановые пряди волос, стройность его фигуры… Разве могла она устоять, когда Алекс произносил своим глубоким голосом голландские слова, которым она его учила?
В тот последний день он говорил ей о той любви, которую она пробудила в его сердце, он говорил ей, что не находит слов, чтобы выразить свою благодарность. Он крепко обнимал ее, покрывая горячими поцелуями ее щеки… А потом он променял ее на высокое, стройное создание с серебристыми волосами. Он сошел с ее фургона и исчез навсегда, оставив Хетте лишь острое ощущение собственной греховности.
Вот уже в течение двух месяцев, глядя на деда и брата, она каждый раз испытывала чувство вины. Как посмела она усомниться в истинности учения старого Упы, как могла противопоставить себя почтенному главе семьи? Упа был прав. Она действительно уродилась не в мать, и при мысли об этом ей становилось еще стыднее.