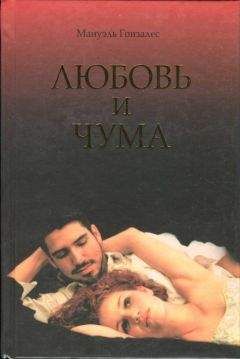Виталь Микели презрительно оттолкнул мятежника со словами:
— Назад, дерзкий, назад!.. Только сумасшедший и может обвинять дожа в убийстве ребенка!..
Орселли прижал к себе труп и проскрежетал:
— Да, великодушный дож, ты виновник этого преступления! Вооруженная Венеция требует у тебя отчета в этом убийстве, и Бог накажет тебя за него… Ты запятнал трон, злоупотребив доверием тех людей, которые дали тебе его… Ты недостоин занимать его больше… Приказываю тебе именем всего народа выйти из этого дворца и сложить свой сан!
— Никогда! — ответил дож с негодованием. — Зачем убил ты, безумный, свою сестру, вместо того чтобы потребовать у меня правосудия? Ты поступил подобно дикому лесному зверю… Это ты убиваешь свою родину, как убил и бедную Беатриче, отказываясь защищать Венецию, разжигая бунт, препятствуя нам принять необходимые меры для удаления угрожающей нам опасности. Ты предаешь республику в жертву грекам и чуме… Негодяй!.. Пусть же народ судит нас обоих! Пусть осудит дожа, желающего спасти республику, и возвеличит гондольера, старающегося погубить ее!
Торжественная тишина не прерывалась; народ не знал, что ему делать. Но Орселли, окончательно выведенный из себя сопротивлением дожа, схватил его вдруг за ворот и, стащив на пол, положил на трон труп Беатриче.
— Пусть жертва займет твое место! — произнес он мрачно. — Не угодно ли тебе, дожу венецианскому, поклониться плебейке, которую ты убил вместо того, чтобы защитить?! — продолжал он, вынуждая Виталя Микели преклониться перед мертвой, ангельское лицо которой выражало полное прощение. — Поцелуй руку этой венецианки, которой ты должен был быть покровителем и отцом! Она была нашей радостью… Кровь ее оставит никогда не смываемое пятно на герцогском троне.
В это время Заккариас подошел к Бартоломео ди Понте и сказал ему повелительно:
— Пора тебе, мне кажется, говорить и действовать. Чего медлишь? Для того ли разжег ты огонь, чтобы тот погас мгновенно? Ты надеешься, что этот сумасшедший убьет дожа?! Нет, ты сам должен отправить его к праотцам: если ты не удивишь народ каким-нибудь необыкновенным поступком, не подашь ему примера смелости и решительности, то и не надейся достигнуть верховной власти над ним. Будь храбрым, и все преклонятся пред тобой!..
— О, я не способен на кровопролитие и насилие! — пробормотал Бартоломео.
— Малодушный! — воскликнул Заккариас. — Ты на каждом шагу ведешь себя как торгаш: ты готов заплатить за преступление, но сделать его самому тебе не позволяет совесть… Горе тебе, если ты повернешь назад!
Между тем Виталь Микели поднялся на ноги и обратился к народу с вопросом, произнесенным тоном бесконечного презрения:
— Довольны ли вы теперь? Вы унизили, обесчестили своего дожа, но он все-таки не отказывается еще спасти погибающую Венецию… Доведите же до конца ваше дело! Убейте же меня, убийцы венецианской республики! Я заранее прощаю вас!..
Орселли, в глазах которого блеснул луч сознания, отскочил назад.
— Беатриче отомщена! — пробормотал он. — Дож уж поплатился за зло, сделанное нам. Надо воздать ему по справедливости: вспомним его победы и раны, полученные им на поле битвы! Да не тронет никого больше венецианская рука…
Но Заккариас, потерявший всякое терпение, перебил его:
— Так как вокруг меня находятся одни трусы, не решающиеся поднять руку, или сумасшедшие, изменяющие народу, то я берусь выполнить их задачу… Озеро крови пусть отделит патрициев от плебеев!
Он выхватил нож из рук гондольера, оттолкнул его, Доминико, нищих и Бартоломео и приблизился к дожу.
— Согласен ли ты отречься от герцогского трона в пользу Бартоломео ди Понте? — спросил он.
— Нет, — ответил гордо Виталь Микели. — Я хочу умереть венецианским дожем.
— Твоя воля! — прошипел грек со зверской улыбкой. — Но знай, что ты умираешь от руки Мануила Комнина!
Говоря эти слова, он поднял нож и вонзил его в грудь благородного Виталя.
Дож упал беззвучно на труп птичницы, лежавшей по соседству с тронным креслом.
Толпа заколыхалась, охваченная паническим ужасом, и поспешила рассеяться во все стороны. Только несколько человек стояли неподвижно, не зная, что предпринять в эту критическую минуту. Кто-то из сенаторов хотел было задержать убийцу, но ловкий Заккариас ускользнул из дворца, воспользовавшись всеобщим смятением. Он торжествовал, потому что вызвал в Венеции полную анархию.
В руки сенаторов попал один Бартоломео ди Понте, которого и заперли в подземную темницу. Дорого поплатился негоциант за свое честолюбие, которому не соответствовал его слабый, нерешительный характер.
В то самое время, когда разыгрывалась в герцогском дворце кровавая драма, на берегу лагуны, неподалеку от хижины, в которой старая Нунциата оплакивала свою Беатриче, лежали четыре человека, по-видимому, матросы.
Люди эти находились в сильно возбужденном состоянии, вероятно, от большого количества выпитого ими вина, о чем свидетельствовали разбросанные вокруг пустые бутылки. Их грязная, изорванная одежда и зверские лица указывали на склонность этих людей к кочевой жизни, грабежу и насилию. С первого же взгляда на них можно было понять, что им чуждо всякое человеческое чувство, чуждо даже различие между добром и злом, и они проводят почти бессознательно день за днем, думая только об удовлетворении своих животных инстинктов. С них стекала ручьями вода, и они сушились теперь на солнце, как собаки, только что выкупавшиеся в реке.
Эти четверо принадлежали к числу венецианских моряков, которых Мануил Комнин продержал некоторое время в больнице для зачумленных в Константинополе и выпустил потом на волю. Цель императора была, как уж известно читателю, распространить таким образом страшную болезнь, которая должна была опустошить всю венецианскую землю.
Моряки приняли на себя отвратительную обязанность подбирать и зарывать зачумленных при том условии, что им будет позволено забирать себе в пользование одежду и другие вещи умерших. Они пренебрегали чумой и беззаботно грабили на острове Кипр дома, в которых побывала страшная гостья.
Магистрат был очень рад, что нашлись в это трудное время такие энергичные люди, которые брались очищать город от заразных трупов. Могильщикам же жилось между тем очень недурно, с их точки зрения. Никто им не мешал предаваться пьянству и разным бесчинствам, никто не оспаривал у них добычу, взятую у мертвых.
Могильщики, как правило, не имеют привычки предаваться грустным размышлениям. И они сообщали друг другу свои впечатления с возмутительным цинизмом.