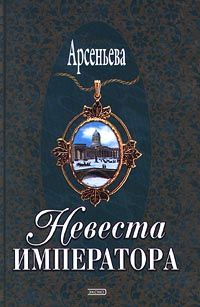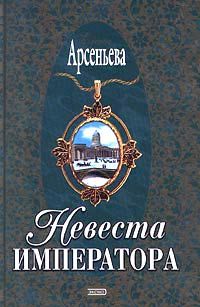В себе Федор видел главный источник зла, погубивший Меншиковых, – и находил нормальными и естественными чувства, заставляющие его предпочитать гибель с ними – позору (хотя бы и перед самим собой).
Он не сомневался, что учиненное им «пещное действо» [65] окончится благополучно. Ей-богу, не зря ведь он содеял нечто подобное для Вавилы – словно репетицию провел! Вся разница была в том, что Вавила играл – и выигрывал (или проигрывал) только сам, а с жизнью князя Федора была связана жизнь Анны… По слухам, она не пострадала, хотя здоровью ее, и прежде расстроенному, никак не способствовали перенесенные потрясения, тем паче что молва предполагала в ней нечаянную виновницу пожара: кто-то из дворни ее отца, уж не Аниська ли, вспомнил и пустил слух, как Анна «лунатила» со свечкой и едва не спалила родительский дом. Ничего, утешал себя князь Федор, их судьбы взаимно сломались по злой воле Долгоруковых.
Князем Федором Григорьевичем Долгоруковым, его сиятельством и прочая, и прочая, он мог именоваться лишь по привычке и Савкиной почтительности. Это имя, этот титул значились на кресте, воздвигнутом над могилою, куда была зарыта горка праха: все, что, как полагали люди, осталось от светлоглазого и высокомерного красавца князя. В безупречности своего замысла Федор не сомневался, а ежели даже Василий Лукич (самый проницательный из всех Долгоруковых, его более всего опасался князь Федор) и заподозрит неладное, узнав, что племянник накануне свадьбы перевел все свое немалое состояние, содержавшееся в ценных бумагах и золоте, из голландского банка в английский, в Лондон, то князь Федор перед свадьбой позаботился «обронить» в приметном месте записочку, из которой явствовало, что он проигрался еще в Париже в пух и прах, а теперь наконец (получив за Анною Казаковой изрядное приданое!) вознамерился вернуть долг чести некоему Иоганну Вейснеру. Это имя князь Федор позаботился также сообщить в Париж другу своему, Ивану Татищеву, и наказал, мол, ежели два года не будет от него вестей, то состояние сие Иван может получить в наследство и память о друге.
Надо полагать, Долгоруковы не раз помянули его недобрым словом: какого, мол, черта, поспешил таково с переводом денег сему клятому Вейснеру, мог бы и погодить: ведь после пожара все оставшееся имущество князя Федора (в том числе и приснопамятное Ракитное) перешло его ближайшим родственникам, Долгоруковым, и потерю почти миллиона в ценных бумагах и золоте они, уж конечно, восприняли болезненно. Да и в доме сгорело кое-какое добро… дома родительского князь Федор жалел, не раз мысленно испрашивал прощения перед дорогими покойниками за содеянное, но что делать, что было делать, как иначе избегнуть участи клятвопреступника и подлеца, он не знал.
В приключениях и странствиях своих он часто вспоминал слова одного из отцов церкви, некогда поразившие его красотою – а теперь и смыслом: «Как человек имеет тело и душу, то и смертей у него две: одна – смерть души, другая – смерть тела; равно как и два бессмертия – душевное и телесное, хотя то и другое в одном человеке, ибо душа и тело – один человек». Князь Федор чувствовал, что опасно шутить шутки с Провидением. Разрушил жизнь Меншикова – в отместку была разрушена и его жизнь. Подшутил со святой церковью, когда его тайно обвенчал поп, чаявший быть расстриженным, – в отместку принужден был претерпеть вторичное венчание, во всем согласное духу и букве закона, кроме того, что жених уже был мужем другой женщины. И, разыграв «комедию» смерти, князь Федор начал всерьез опасаться за свою жизнь, моля только об одном: успеть прежде, чем его настигнет рок, загладить вину перед возлюбленной женою и ее отцом.
У него не было четкого плана действий, а потому он на всякий случай держался в стороне от Березова, появившись там только раз, чтобы поклониться воеводе и спросить разрешения вести вольный промысел дохоря [66], соболя же отдавать казне, – тем паче носу не казал в загородье [67], где поселились Меншиковы. Савка там шнырял беспрестанно, наблюдал, доносил барину; раз или два князь Федор видел в лесу Бахтияра, несшего битую птицу или зайца, и потому только удержал руки, так и чесавшиеся прибить ненавистного соперника, что он нес еду для семьи Меншиковых, значит, и для Марии. По словам Савки, жили ссыльные так, что «по брюху ерыкалось», впроголодь, и князь Федор, купив у вогулов отличного пса-заячара [68], через Савку и еще третье лицо за бесценок отдал его Александру. По слухам, тот вспомнил былые развлечения (царскую охоту) и хаживал в лес, принося домой добычу. Маша теперь не голодает – за это князь Федор был спокоен. Душа его болела лишь об одном: он до сих пор не знал, как появиться перед нею, чтобы не напугать до смерти… сказать по правде, он не знал, как удостовериться в ее прежней любви! От этого зависело все дальнейшее.
И вот прошел июнь, начался июль; август грозился быть дождеватым и мокрым, с бегством, замысленным Федором, надлежало спешить… а он все никак не мог найти пути к Марии.
Помог случай, и после этого князь Федор несколько приободрился: похоже, неумолимое Провидение пока что отступилось от него и решило поглядеть, как он станет заглаживать свою вину.
* * *
Чуть выше по течению того места, где стояла их с Савкою избушка, река катилась по перекатам, и в пору, когда шла на нерест сосьвинская сельдь, рыбы там было множество. Вчера наловили столько, что слегка присолили остатки, а сегодня пошли в тайгу проверять свои поставухи.
В вершинах буйствовал такой ветер – по всей тайге стоял шум и звон, однако чуткое ухо князя Федора вскоре различило еще какой-то звук, напоминающий громкий не то плач, не то вой, сменившийся тоскливым женским криком.
Савка остановился и в испуге схватил своего барина за рукав. Оба уже немало пообщались с вогулами и усвоили: это или шаманка Сиверга играет на своей сделанной из волчьих жил игрушке, чтобы для забавы или по злобе разогнать чье-нибудь оленье стадо, или, что еще хуже, кричит злой дух куу-куу. Вогулы учили, что, заслышав его крик – вернее, ее, потому что это женский дух, – надо привязать себя к дереву, иначе против воли уйдешь на крик; затем ударить себя по носу до крови: дух увидит кровь, подумает, что этот человек уже убит, и уйдет, отвяжется от путника. Савка всерьез задумался, что барину, конечно, придется разбивать нос и слуге, и себе самому: у камердинера не поднимется рука на господина! – как вдруг князь схватил его за руку, призывая к тишине: на тропинке, загораживая им путь, сидела сова и смотрела на них.
Вот именно – смотрела. А ведь совы слепнут днем. Но у этой глаза были не слепые: живые, острые, черные-черные, не желтые! Она приоткрыла клюв, крикнула жалобно, тонко, а потом, тяжело вздымая крылья, поскакала по тропинке. Сделав два-три прыжка, оглянулась, наклонила голову, снова крикнула – словно просила о чем-то.