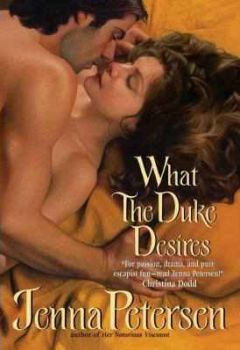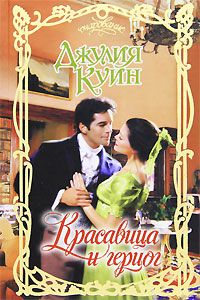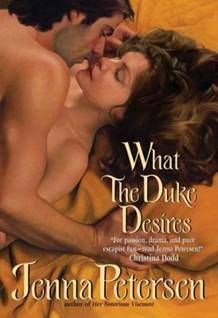— Саймон…
— Т-ты з-знаешь, что до четырех лет я вообще не мог говорить… А когда он однажды приехал, то не пожалел своего сына, не пригласил врачей, учителей… Он злобно тряс меня и кричал, что выбьет из моей глотки слова. А если нет, забудет обо мне. Проклянет… Т-таким б-был мой от-тец…
Дафна старалась не обращать внимания на то, что Саймон заикается все сильнее. Это пройдет так же быстро, как началось, говорила она себе. Больше, чем затруднение в речи, ее беспокоило его душевное состояние — печаль в глазах, тихий странный голос.
— Саймон, — сказала она, — это было и давно прошло. И отца тоже нет на свете. Успокойся и забудь. Зачем ты начал вспоминать? Зачем?..
Он продолжал, как будто не слышал ее слов. Словно разговаривал с самим собой:
— …Отец говорил, что не может меня видеть. Вспоминал, что молился не просто о рождении сына — но о наследнике. А сын, да еще такой, ему не нужен. Для чего? Чтобы род Гастингсов продолжил заикающийся идиот? Чтобы его герцогское достоинство воплотилось в таком, как я, жалком ничтожестве?..
— Но этого же не случилось, Саймон, — прошептала Дафна. — Все произошло не так…
— Мне наплевать, — крикнул он, — как все окончилось! Прав он или нет! Не в этом дело, а в том, каким он был отцом, как относился к сыну… ко мне… В том, что все его чувства затмила родовая гордыня, и он не видел, не ощущал ничего… ничего человеческого… За что должен понести наказание. Если не он сам, то весь его род! Его род!
Дафну обуял страх перед ненавистью, которая бурлила в его словах, читалась на лице. «Мне отмщение, и Аз воздам», — было написано на нем.
Еще больше испугалась она, когда он вдруг приблизился к ней почти вплотную и процедил сквозь зубы, глядя ей прямо в глаза:
— Но смеется тот, кто смеется последним! И я посмеюсь. Он страшился пуще смерти мысли, что его титул может перейти к такому, каким считал меня, — к заике и дебилу. Но я сделаю хуже. Он перевернется в могиле, когда узнает…
— Саймон! Пожалуйста, прекрати. Мне страшно… Успокойся…
Теперь их роли переменились: уже не он, а она уговаривала успокоиться.
— Нет! — крикнул он так, что она вздрогнула и испугалась, что прибегут слуги. — Нет, слушай меня! Или уходи!.. Ей хотелось так сделать, но она пересилила себя и только на всякий случай немного приблизилась к двери.
— Конечно, я вскоре понял, — продолжал он уже спокойнее, — и окружающие помогли мне в этом, что я не идиот, не полоумный. Да и отец… мне всю жизнь трудно выговаривать это слово… он тоже знал это. А потому успокоился, считая, что род Гастингсов будет сохранен.
Странная улыбка мелькнула у него на лице. Жестокая, мстительная. Такую она не видела никогда раньше и уже поняла, что скажет Саймон. Он сказал:
— Однако род Гастингсов умер во мне… Этого он знать не мог. Об этом не догадывался. Но он исчез во мне, в моей душе, в сердце и не будет никогда продолжен. Ибо даже мои родственники… их так опасался отец… они все женщины. Гастингсов больше нет. — Он пожал плечами и рассмеялся резким неприятным смехом. — У меня только двоюродные сестры, кузины… А я, единственная его надежда, не оправдаю его тщеславных чаяний… От меня он не получит потомства.
Дафна уже отошла от двери, поняв, что угрозы для нее нет, и презирая себя за минутный страх. Она вспомнила вдруг о письмах, которые вручил ей старый герцог Мидлторп. Письмах отца к Саймону. Она так ничего и не сказала о них и не знает теперь, нужно ли вообще говорить. Но, возможно, как раз в них отец сожалеет о своем поведении, кается, просит прощения?
— Быть может, твой отец перед смертью почувствовал угрызения? — неуверенно сказала она. — Муки совести?
— Это уже ровно ничего не значит, — ответил Саймон. — После моей смерти род Гастингсов прекратит свое существование. О нем забудут. И это д-доставит мне р-радость.
С этими словами он поспешно вышел. Но не через дверь в коридор, близко к которой стояла Дафна, а через свою туалетную комнату.
Дафна, обессиленная, опустилась в кресло, по-прежнему продолжая кутаться в простыню, сдернутую с постели.
Что делать? Что ей теперь делать?
Она ощущала дрожь во всем теле и поняла, что ее сотрясают рыдания. Тихие, безмолвные, без единого стона.
«Господи, что же теперь будет? Как жить дальше?»
…Сказать, что мужчина упрям, как осел, означает обидеть это животное…
«Светская хроника леди Уислдаун», 2 июня 1813 года
В конце концов Дафна отважилась на то единственное, к чему привыкла в их семье, где не было принято таиться друг от друга, держать камень за пазухой, а напротив — делиться, советоваться, беседовать обо всем самом сокровенном и сразу выяснять все недоразумения, если таковые возникали.
И потому она решила прямо поговорить с Саймоном. Да и что еще оставалось? Хотя тема разговора была такой трудной… болезненной.
Наутро (где он провел ночь, она не знала, но, во всяком случае, не в ее постели) она застала его в кабинете — большой и строгой, предназначенной исключительно для мужчин комнате, декорированной, насколько она успела узнать, еше отцом Саймона.
К ее удивлению, Саймон, как она увидела, чувствовал себя вполне комфортно в комнате, где все напоминало об отце. Он расположился возле письменного стола, закинув ноги на кожаную книгу для деловых записей, лежащую на отполированной поверхности вишневого дерева. В руках он небрежно вертел большую ракушку, рядом на столе стояли бокал и бутылка виски. Судя по всему, в таком положении он пребывал чуть ли не всю ночь. Впрочем, бутылку пока еще не успел опорожнить.
Дверь в кабинет была приоткрыта, Дафне не пришлось стучать. Но вошла она не без стеснения и остановилась на пороге.
— Саймон? — окликнула она.
Он повернулся на ее голос, нахмурился.
— Ты занят?
Он положил ракушку на стол.
— Не очень.
Она указала пальцем на этот предмет:
— Красивая. Это из твоих путешествий?
— С берегов Карибского моря. Одно из напоминаний.
Она обратила внимание на то, что речь его была совершенно спокойна, никаких признаков вчерашнего волнения, никакой задержки в словах. Это абсолютное спокойствие ее немного задело. Наверное, поэтому она задала довольно нелепый вопрос, не сумев скрыть досады:
— А что, тот берег очень отличается от нашего?
Он снова нахмурился. Видимо, ему было не до разговоров на отвлеченные темы.
— Тот берег значительно теплее, — ответил он сдержанно.
— Об этом я могла и сама догадаться, — обиделась она. В глазах его была все та же бесстрастность, когда он произнес:
— Дафна, я полагаю, ты пришла сюда не для того, чтобы беседовать о различии между тропиками и умеренным климатом?