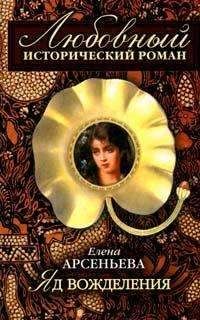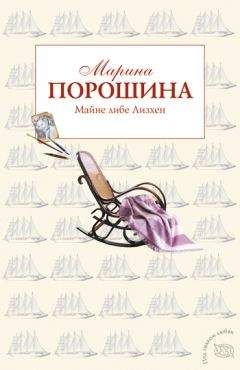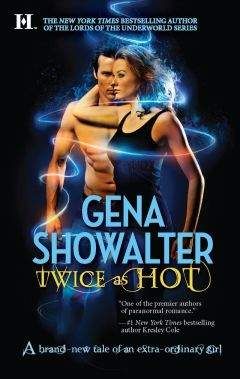– Изволите скучать, сударыня?
Алена судорожно сглотнула, не зная, что ответить, только завороженно уставилась на него. У нее сердце заныло, так он был красив! Впрочем, Меншиков, пожалуй, красивее: яркие синие глаза, точеный лик, – но для Алены не было во всем мире ничего краше этих прищуренных длинных глаз, этих встопорщенных на переносице бровей, этих резких черт, недобро поджатых губ. Она беспомощно смотрела на его рот, вспоминая, каково это было – целовать его, тихо вздохнула о несбыточном – и набралась храбрости заглянуть в ледяные глаза.
Однако они вовсе не были ледяными! Волнение растопило лед, волнение зазвенело в голосе:
– Это правда, что фон Принц уезжает, но вы остаетесь?
Алена чуть заметно кивнула. Почему он спрашивает? Неужели… Надежда вспыхнула в сердце, но тут же и погасла от презрительного вопроса:
– Говорят, он опять взял к себе Катерину Ивановну. Чем же вы ему не угодили?
Алене показалось, будто все свечи, и факелы, и огни вокруг погасли разом. Тьма спустилась перед глазами, кровь отлила от лица. Она повернулась, шагнула куда-то – не видя, не понимая, желая лишь одного: исчезнуть отсюда, забиться в какую-нибудь нору… а лучше бы умереть сразу, на месте! Вдруг ее кто-то сильно схватил за руку, дернул – и Алена уткнулась лицом в жесткое кружево, ощутила, как чья-то рука обхватила ее, губы жарко скользнули по шее, тяжелый, мучительный вздох послышался рядом… Но тотчас внезапные объятия разжались, в глазах у Алены постепенно рассеялся мрак, и она снова увидела близко склоненное к ней лицо Аржанова.
– Через минуту вы сможете делать что хотите, – быстро сказал он. – Уйдете, уедете… можете убить меня. Но только скажите: почему фон Принц уезжает, а вы остаетесь?
– Да, я остаюсь, – с трудом подавляя неистовую внутреннюю дрожь, вымолвила Алена. – Катерину Ивановну Фриц всегда любил, а я… я была лишь на время, поэтому…
– Знаю, – перебил он. – Они из-за вас расстались?
Алена пожала плечами:
– Нет, вряд ли. Они расстались из-за Людвига фон Штаубе, но теперь он уехал на Урал, а Фриц…
– А Фриц уезжает в Саксонию, так что Катерина Ивановна пожелала вернуться к нему, – закончил Аржанов. – Ну хорошо. А вы что же? Почему не противитесь, коли его любите?
Она вскинула голову, взглянула на него – и тотчас отвела глаза, будто обожглась. Да нет, все это чепуха. Это все мнится, сердце рвется к нему – вот и чудится всякое.
– Люблю? – тихо повторила она. – Люблю, да…
«Люблю тебя! – надрывалось ее сердце. – Век тебя любила, век буду любить. Ты один во всем свете мил мне, ты один!..»
– Что проку в любви? – сказала она глухо. – Любовь – птица, сердце – клетка. Пока сидит птица в клетке, все стены источит клювом своим. Боль, мука! Нестерпимо… Но стоит лишь клетку отворить, выпустить птицу – и сердце пусто, и только тогда понимаешь, что мучение было счастье. А воля, которой ты птицу предаешь, ей не надобна. Летит бог весть куда… крылья ломает, но в клетку не воротится. А сердце рвется, так рвется…
Сначала она знала, что хочет сказать, но боль скрутила, и Алена уже говорила, что в голову взбредет, не слыша, не понимая себя. Слезы жгли глаза, она порывалась вытереть их, но почему-то руки были как бы скованы, она ими шевельнуть не могла. Кое-как проморгавшись, увидела, что их держит Аржанов.
– Послушайте, – заговорил он торопливо, задыхаясь, и видно было, что каждое слово, каждый вздох даются ему мучительно. – Ну, коли так… знайте, я еще и теперь могу добиться, чтобы фон Принца оставили в Москве, не то в Петербурге. Можно пустить слух, что его тоже засылают к Демидову, тогда Катерина Ивановна от него вмиг отцепится, сами знаете.
Алена глядела на него с изумлением:
– Да к чему… к чему это, сударь?! Фриц уже мыслями дома, а Катюшка… что Катюшка! Хочет с ним ехать, ну так пускай! И бумаги дорожные им выправили, и все вещи собраны.
– Вещи? Бумаги? – выкрикнул Аржанов, не заботясь, что на них оглядываются. – А ты? А сердце твое? А Фриц?
– Какой Фриц? Да век бы его не видела! Пусть едет! Пусть в прах рассыплется! Сердце мое – где ты! – отчаянно прошептала Алена, с тоской вглядываясь в его лицо. Только сейчас она разглядела, какое это лицо исхудалое, измученное… – Ты – мое сердце. Понимаешь? Да только на что я тебе?
– На что? – хрипло пробормотал он. – На что?.. – И, не отпуская рук, повлек, потянул ее к себе, так что они вдруг сошлись грудь с грудью, глаза в глаза… Оба враз медленно опустили ресницы, словно невмочь было перенести то, что открыло им слиянье взглядов… и, вздрогнув, испуганно отпрянули друг от друга, когда мимо огромными прыжками промчался государь, волоча за собою хохочущую жену и выкрикивая громогласно:
– Англез! Англез с фигурами! Пляшем! Все пляшем!
Меншиков, румяный, веселый (веселье любимого государя было тем кресалом, которое высекало искры из его верного сердца), припрыгивал следом, да так, что Дарья Михайловна, которую передал ему Петр, не поспевала за мужем.
– Танцы, господа! Англез с фигурами! Кто во что горазд! – завопил Александр Данилыч благим матом. – Все в пары!
Алена успела увидеть, как расширились его лихие синие глаза при виде ее рядом с Аржановым, при виде их сцепившихся рук, – а затем Алексашка поскакал дальше, обращая свои крики словно бы ко всем, однако Алене чудился в них особый смысл:
– Господа кавалеры! Крепче дам держите, коли склонность взаимную почуяли! Не то налетит бес вроде меня, напроказит, накуролесит! Бесу – веселье мимолетное, а вам слезы! Крепче держите, коли бог послал счастье, не отпускайте своих красавиц!
Аржанов наклонился к Алене, еще крепче стиснул руку.
– Никогда не отпущу, хочешь? – быстро, шало спросил он, а когда Алена без раздумий выдохнула в ответ: «Да!», на мгновение облегченно прикрыл глаза. И не успела Алена удивиться, что он еще мог – он! – сомневаться в ответе, как Аржанов увлек ее в хоровод танцующих.
Ах, как теперь благодарила Алена Катюшку за то, что подруга заставила ее поглубже запустить руку в кошелек Фрица! Какой необычайно нарядной, великолепной показалась она себе вдруг! Каким счастьем оказалось ловить взгляды дам, перебегающих с сияющего лица Аржанова на светящееся лицо Алены, а потом на ее наряд! Ох, какое платье, какое… Шнурованье, щедро расшитое жемчугом, было бледно-золотистым, как и блонды, легким облачком клубившиеся по краю декольте. Лиф шелковый, легкий, слегка травчатый золотистыми нитями, с золотой лентою вместо пояса. Он расходился на груди, а юбка была сплошная, очень тяжелая и пышная, но без всяких фишбейнов. Ее сшили из травянисто-зеленой тафты с золотыми и серебряными, а кое-где даже мрачно-красными цветами. Внизу юбку украшала широкая волна жесткой золотой фалбалы. Чудилось, будто Алена стоит на золотом постаменте. А волосы были убраны золотыми и жемчужными нитями – тонкими, едва заметно проблескивающими в пышных русых волосах…