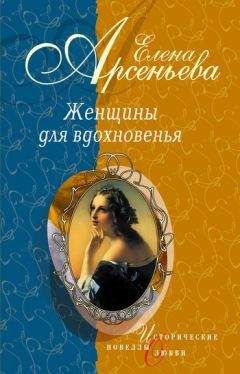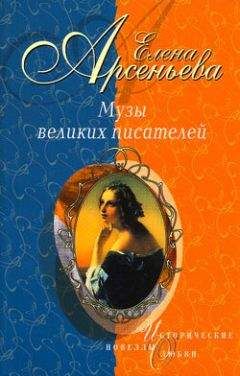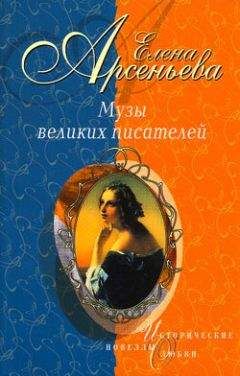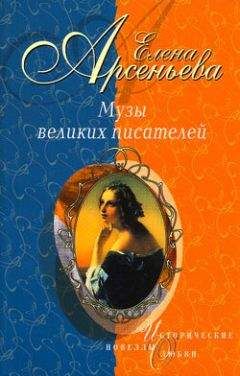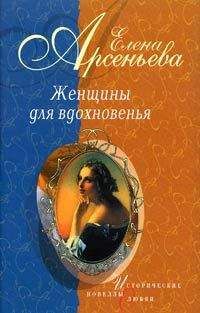Ну что ж, Вигель был наблюдательный и тонкий психолог. Невозможность приладить элегию к диссертации Пушкин позднее обрисует более точными словами:
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Увы… И как ни старался Иоганн Мойер сделать Машу счастливой (Вигель и тут оказался прав), ему это не удалось. А он старался, воистину! Она тоже тщилась что было сил быть добродетельной женой добродетельного мужа. Мойер работал в общественной больнице, средств на содержание которой отпускалось очень мало. Маша не только помогала мужу ухаживать за больными, но и солила для них капусту, делала другие заготовки летом, вставала ни свет ни заря, чтобы сварить бульоны и напечь пирогов в дополнение к скудному казенному рациону. Она начала изучать медицину, чтобы не только помогать Мойеру по хозяйственной части, но и уметь заменить его при надобности, и таланты ее в этой области были замечательны.
Студент И. Вилламов в 1819 году писал В.К. Кюхельбекеру: «Хотя я здесь коротко знаком с одним домом, т. е. с семейством Е.А. Протасовой, но я не желаю других знакомств. Скучно мне? иду к почтенной этой госпоже и милой дочери ее, Марье Андреевне Мойер, и уверен, что возвращусь довольный собой и временем, которое у них провел. Грустно мне? пойду к ним и забуду грусть: у них обыкновенно отборное общество; веселятся без шуму, разговаривают без церемоний, смеются от сердца, радуются от души. Какая жизнь!»
Словом, Маша могла быть довольна и горда своим духовным подвижничеством, домом, который создала, своей репутацией. И если бы еще душа ее была на месте, если бы не рвалось на части сердце…
Совершенно прав был Жуковский, когда упрекал Катерину Афанасьевну:
Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! — вы им сказали.
Всему конец!
Счастье кончилось для Маши в тот день, когда она вышла замуж за нелюбимого мужчину.
Вот строки из ее писем двоюродной сестре, Авдотье Киреевской:
«Я решилась не желать ничего и не делать планов, так всего легче… Дуняша, не требуй, чтобы я водила тебя по закоулкам сердца. Это — лабиринт, я сама часто теряюсь в нем… Бог хотел дать мне счастье, послав Мойера, но я не ждала счастья, видела одну возможность перестать страдать. Можно и должно жизнь сделать чем-то важным без счастья, без восхищения, а с должностью просто… Я люблю мужа как моего благодетеля, как человека, который обеспечил мне покой, постоянное и прочное счастье, который избавил меня от всего дурного и который, кроме того, дал покой маме… Я не решаюсь говорить ему о том, что происходит в глубине сердца, но сколько раз я думала про себя: «Я счастлива, видя тебя довольным, позволь же мне быть печальной, это все, что я желаю».
А Жуковский? Что же он?
Он изредка появлялся в Дерпте, но сколько же можно сыпать соль на открытую рану! «Мне везде будет хорошо — и в Петербурге, и в Сибири, и в тюрьме, только не здесь… Прошедшего никто у меня не отымет, а будущего — не надобно», — признался он доброму другу своему, Александру Тургеневу. В это время на полях его рукописей, в которых возникало имя Маши или стихи о любви, все чаще оказывается нарисован могильный крест. Это был крест на могиле желаний и мечтаний Жуковского («Роман моей жизни закончен!», «У меня уже ничего не осталось. Мне кажется, я все потерял!»). Но каким страшным пророчеством это обернется вскоре…
Когда я был любим, в восторгах, в наслажденьи,
Как сон пленительный, вся жизнь моя текла.
Но я тобой забыт, — где счастья привиденья?
Ах! счастием моим любовь твоя была!
Между тем судьба, словно решив сжалиться над Жуковским, посылала ему утешение за утешением. Правда, они в основном лежали в сфере иной, далекой от сердечного трепетания, — это были припарки для тщеславия и честолюбия, однако мужчина ведь не может жить только сердцем, он более живет умом. Ум Жуковского в это время всецело занят новым видом деятельности: преподаванием русского языка и литературы невесте великого князя Николая Павловича (будущего императора), прусской принцессе Шарлотте, окрещенной Александрой Федоровной. Это была очаровательная юная женщина, которая искренне старалась полюбить Россию и немало в этом преуспела с помощью Жуковского. Он был доволен и ученицей, и новой деятельностью вообще — он ведь был прирожденный наставник, — и творческий дух вновь ожил в нем: Василий Андреевич много переводил, много писал.
Он собирал деньги для парализованного и полуслепого поэта Ивана Козлова (того самого, который написал великолепные строки: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он…»), отпустил на волю всех своих крепостных, добился для Пушкина замены ссылки на перевод в Бесарабию чиновником Коллегии иностранных дел. Именно в это время, прочитав только что написанную поэму «Руслан и Людмила», Василий Андреевич пришел в такой восторг, что послал Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя»…
А теперь и о сердце Жуковского.
В 1819 году при дворе он познакомился с графиней Софьей Александровной Самойловой, фрейлиной императрицы Марии Федоровны. Софи Самойлова была женщина редкой любезности, спокойная, но неотразимо очаровательная. Ей равно покорялись мужчины и женщины. В ее глазах и пленительной улыбке были и чувства, и мысль, и доброжелательная приветливость. Она была умна не мужским, холодным, ироничным, а ясным женским умом, вдобавок начитанна, образованна. Словом, это была воистину прелестная дама, в которую Василий Андреевич влюбился неожиданно для себя.
И… испугался этого. Прежнее чувство, которое стало ему привычным как жизнь, кончилось. Софи была совсем другой женщиной, чем милая простушка Маша. Она меньше всего желала бы жизни эпистолярной, платонической, неопределенной, бесполой — всего того, что тешило такого нерешительного, робкого и не больно-то страстного мужчину, как Жуковский. Долгоиграющим возвышенным романом тут было не обойтись, и только Жуковский уже начал подумывать о приличном отступлении, как ему повезло. Приятель его, Василий Алексеевич Перовский, бывший адъютантом Николая Павловича, тоже влюбился в очаровательную графиню и признался в этом Жуковскому. Сохраняя на лице выражение благородной печали и с трудом сдерживая вздох нескрываемого облегчения, поэт совершил отступательный маневр, который произвел большое впечатление на окружающих и закрепил за Василием Андреевичем репутацию человека редкостно самоотверженного. А на день ангела графини Софьи ей было преподнесено очень милое, хоть и несколько назидательное стихотворение с пожеланиями всяческого счастья. Эта душевная встряска несколько развеяла уныние Жуковского, вновь полились стихи… Ну а когда великую княгиню Александру Федоровну доктора послали за границу для поправления здоровья, Жуковский отправился туда же в ее свите.