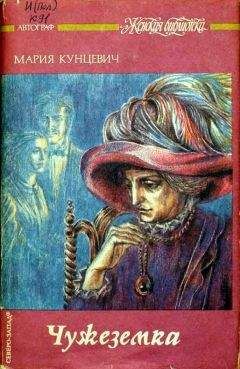Обнял меня, я ничего уже не понимала, мы снова оказались в постели, кто был прав? Никто — ни я, ни он. Светало. Михал опять стоял в окне, готовый к прыжку, только любовь, не знаю уж чья — собачья или человечья, — была права.
Я схватила его за руку.
— Пришлешь сережку? Помни — опять буду ждать.
Не оглянулся — прыгнул.
Перед свадьбой я сказал Кэт:
— Катажина, мне нравится твои имя, твои руки, то, что ты любишь зверье и можешь обойтись без мужика. Это по мне.
— Хватит и этого, — согласилась она.
Ради своих незаконных дочек согласилась, чтобы наконец-то они могли сказать своим подружкам, кто их папа, как его зовут, что он делает. Чтобы перестали их презирать за то, что у них нет папы. В общем-то малявки эти мне даже нравились. В особенности младшая — Ингрид; глаза у нее светлые, прозрачные, как у Подружки, как вода в ясный день. Я к ним хорошо относился. Ведь они не были моими и я не обязан был их любить. Старшую, Катарину, кудрявую итальянку, я сразу же посоветовал отдать в пансион в Швейцарии — ради ее же пользы: уж больно жадные у нее были губы, когда она, уходя спать, целовала меня на сон грядущий. Ингрид целоваться не любила.
Я работал в фирме, должность небольшая, но зато широкий доступ за кулисы, кое-кого накрыл с поличным — как-никак старый конспиратор.
Бернард заявил своим, что я маг-волшебник. Завел я себе лошадку: вместе с Кэт мы ездили по окрестным лесам, на Лонг-Айленде еще не все вырубили, или на взморье в Джон-Бич — песок мокрый, рядом вода плещет, глядишь и день прошел. А ночью — беда. Спальня у нас была общая, и, хотя Кэт меня не трогала, я все время боялся чего-то, думал, вот-вот Кэт протянет руку — а меня здесь нет. Чувствовал я себя прескверно.
Когда Кэт приходила в мою комнатушку над баром, я или корчился от боли, или лежал пластом, и она на меня не обижалась. А потом, когда я стал поправляться и она мне растирала спину, подавала отвары, я заметил какие у нее белые руки, я был зол на Касю, на весь мир, тело мое взбунтовалось, взял я Кэт за одну белую руку, потом за другую, она опрокинулась на меня — свершилось.
Еще несколько раз мы предавались своим страстям со всем пылом (но только не добрый-то был огонь), все это было уже после открытки про пятилетнюю верность.
После свадьбы все совсем другое. Свободного времени хоть отбавляй, общее ложе, купленная за деньги общая плоть, общие желания. Не было у меня желанья, и барометр упал до нуля. Пришлось как-то выкручиваться. «Не сердись, Кэт, — сказал я. — Доктора запрещают. Понимаешь, спина… нервная система… Рекомендовали воздержание. Извини».
На другой день дверь спальни оказалась заперта изнутри. Пришел слуга, проводил меня в апартаменты в другом крыле дома, там мне была постлана жесткая постель. Я вздохнул свободно, спал, как убитый. Кася мне снилась девочкой, какой она была в ту июльскую ночь, симфония Франка.
И вот эти-то сладкие сны о Касе чуть было не довели меня до безумия. Днем я спасался в своей конторе, а ночью отправлялся в кабак, лошадь мне опротивела, пса-боксера, подарок Кэт, я чуть было не замучил насмерть за то, что он не был похож на Партизана, боялся заснуть: только глаза закрою — руки сами ищут Касю, все во мне переворачивалось, бушевало, искало отдушины, одной-единственной, не было ее. Я задыхался.
Как-то я оставил в конторе записку Бернарду: лечу самолетом дней на десять к доктору-специалисту. Просил передать Кэт. И полетел к ней, к моему доктору.
В Труро я сходил с ума. Когда Подружка увидела меня в таверне «Люгер», ее чуть было удар не хватил. Но все же мне полегчало: Кася все еще была моя.
Возвращался назад, как в дурмане. Кася была моя, но все твердила про эти проклятые пять лет. Подружка говорит, что за это время я должен стать мужчиной, закалить характер, надо помнить про Брэдли. Кася, Кася, глупая ты моя, какой еще тебе мужчина нужен? Такого, каким я для тебя был, ты все равно не найдешь.
Брэдли? Старый хрыч, он больше виноват перед тобой, чем я. Чужой молодости ему захотелось, свою-то он давно в себе придушил. А Кэт? Кэт Уокер замуж вышла не за меня, вышла за «папочку». На что мне характер? Умереть и без характера можно! Так я думал, глядя из самолета на белое Ничто, пустоту между мною и миром, — чужие края, чужие воды, люди, которых не видно.
Кэт не спрашивала меня, где я был. Не все ли ей равно, где я был эти десять дней, в ином мире или в Сан-Франциско? У нас с ней и так общего мира не было.
Приехал я вечером. Велел отнести чемоданы в мою «одиночку», поужинали, выпили кофе, выкурили по две сигареты. Кэт спрашивает:
— Что сказал тебе специалист?
Все у меня внутри дрожало от смеха, но я с грустной миной сказал:
— Увы… Велел подождать. Должно быть, дело затяжное, выдержка нужна.
Поцеловал печальную белую руку и вышел.
Я бы все равно глаз не сомкнул, но Бернард все же явился некстати. Вошел без стука, морда землистая, под глазами черные круги — без меня, наверное, не просыхал, — повалился в кресло, засипел:
— Думал, ты больше не вернешься, у тебя секс на уме, а тем временем Моррисон, это тот ворюга-директор, выгнал меня из правления, взял другого вице, проводят какие-то зверские реформы, отказались от лучших клиентов, искусственно снизили курс акций, видно, хотят большую часть наших бумаг скупить, ты должен что-то сделать, лучше всего застрели Моррисона — для тебя это пустяк, мы тебе выправим бумаги, посидишь годик в психушке, а потом выкупим.
Нес всякую чертовщину, пока не заснул. Слушать его зловещий храп мне надоело, я позвонил и велел слуге его вынести.
Ну и завертелась карусель. С самого утра я кинулся на разведку. Все легче, чем думать о Касе. Очень быстро я узнал, что Моррисон уже выудил у старой Уокерши согласие на продажу ее пая. Старухе фирма ни к чему, ей нужны были деньги на строительство баптистской часовни в Кентукки, в городишке, в котором она родилась. Кэт давно уже не рассчитывала на семейные капиталы, сразу же после реализации наследства отказалась от своей доли акций, зато оставила себе владения в Лонг-Айленде, которые по частям продавала и тайком, очень хитро распоряжалась наличными: на себя тратила немного, скупала золото и картины французских импрессионистов.
— А ты не боишься, что капитализм отдаст концы, а импрессионизм всем осточертеет?
— Тогда и я отдам концы. А импрессионизм мне уже давно осточертел.
Оставалось рассчитывать только на Бога. Яхта миссис Уокер была далеко в Средиземном море. Я полетел в Марсель и настиг ее где-то возле Канн. Когда я из моторной лодки перебрался на палубу, старуха обрадовалась, что вас сюда привело, спрашивает. Видел сон, говорю, видел сон, будто Моррисон кровью вашего сына подписывает сделку с дьяволом. Старуха перекрестилась, а я плету дальше, наконец-то, мол, я узнал не во сне, а наяву, кто такой Моррисон. Он из католиков-уголовников, которые связаны с сицилийской мафией и с Ватиканом. Главная их цель — подорвать влияние американских протестантов и насаждать католицизм. По поручению всего семейства я приехал ее предупредить, чтобы она, упаси боже, не вела с Моррисоном никаких переговоров. Прикинулся, что о делах ее ничего не знаю.