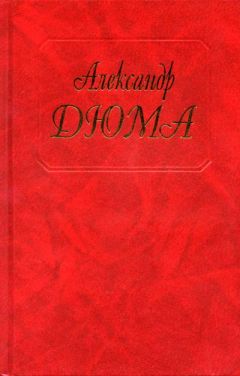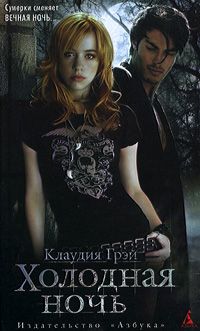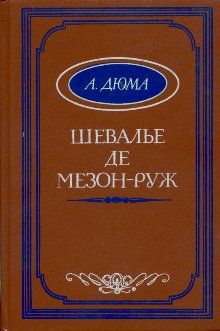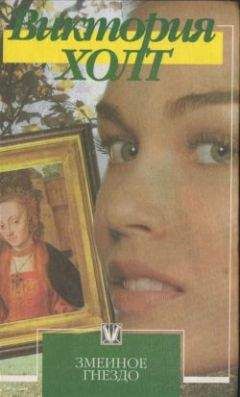Жандармы тоже устроились в другой половине. История сохранила их имена, как обычно и случается с незначительными людьми, кого судьба связывает с великими катастрофами и на ком отражаются отблески того света, что бросает молния, сокрушая либо королевские троны, либо самих королей.
Их звали Дюшен и Жильбер.
Коммуна назначила этих двоих людей, потому что знала их как добрых патриотов. Они должны были оставаться на своем посту в этой камере до суда над Марией Антуанеттой: так надеялись избежать беспорядка, почти неминуемого в том случае, если охрана меняется несколько раз в день. Поэтому на этих двоих была возложена чрезвычайная ответственность.
Королева с первого дня узнала об этой мере из разговора охранников: каждое слово их долетало до нее, если какая-то причина не заставляла их понижать голос. Она почувствовала одновременно и радость и беспокойство. С одной стороны, говорила она себе, эти люди должны быть очень надежными, поскольку из многих выбрали именно их. С другой стороны, размышляла она, ее друзья смогут найти гораздо больше возможностей подкупить двух известных им постоянных сторожей, чем сотню незнакомцев, волею случая определенных на дежурство и неожиданно оказавшихся рядом с ней на один день.
В первую ночь, перед тем как лечь, один из жандармов по привычке закурил. Дым табака проник через перегородку и окутал несчастную королеву, чьи бедствия обострили ее чувствительность, вместо того чтобы притупить ее.
Вскоре она почувствовала недомогание и тошноту, в голове у нее мутилось от тяжелого удушья. Но, верная своей неукротимой гордости, она не высказала ни единой жалобы.
Она не могла уснуть; и в этом болезненном бодрствовании, в ничем не нарушаемой ночной тишине ей показалось, что извне доносится какой-то стон; он был заунывным и протяжным, в нем было что-то зловещее и пронзительное, похожее на шум ветра в тесных ущельях, когда буря заимствует человеческий голос, чтобы одушевить страсти стихий.
Вскоре она поняла, что этот стон, вначале заставивший ее вздрогнуть, этот горестный и несмолкающий вопль был жалобным воем собаки на набережной. Ей вспомнился бедный Блек, о котором она забыла, когда ее увозили из Тампля, и чей голос, казалось ей, теперь узнала.
Действительно, бедное животное, из-за избытка бдительности потерявшее свою хозяйку, незаметно последовало за ней, бежало за экипажем вплоть до решеток Консьержери и бросилось прочь только потому, что едва не было разрезано пополам двойным лезвием железных ворот, захлопнувшихся за королевой. Но бедная собака вскоре опять вернулась и, поняв, что ее хозяйка заперта в этом каменном склепе, звала ее, завывая в десяти шагах от часового, в ожидании ласкового ответа.
Королева ответила вздохом, насторожившим охрану.
Но, поскольку этот вздох был единственным и за ним не последовало никакого шума в комнате Марии Антуанетты, охранники успокоились и опять погрузились в дремоту.
На рассвете королева поднялась и оделась.
Сквозь частые прутья оконной решетки голубоватый свет падал на ее исхудавшие руки; она делала вид, что читает, но мысли ее были далеко от книги.
Жандарм Жильбер приоткрыл ширму и молча посмотрел на нее. Мария Антуанетта услышала скрип створок, которые, складываясь, царапали пол, но даже не шевельнулась.
Она сидела так, что жандармам ее голова видна была в ореоле утреннего света.
Жильбер подал товарищу знак, чтобы тот вместе с ним заглянул за ширму.
Дюшен подошел.
— Посмотри, — тихо произнес Жильбер, — как она бледна; это ужасно! Ее глаза покраснели, значит, она страдает. Я сказал бы, что она плакала.
— Ты же хорошо знаешь, — ответил Дюшен, — что вдова Капет никогда не плачет. Для этого она слишком горда.
— Значит, она больна, — решил Жильбер.
И продолжал, повысив голос:
— Скажи-ка, гражданка Капет, ты больна?
Королева медленно подняла глаза и устремила свой ясный и вопрошающий взгляд на охранников.
— Это вы со мной говорите, господа? — спросила она голосом, полным доброты: ей показалось, что она заметила тень участия в тоне того, кто обратился к ней.
— Да, гражданка, с тобой, — продолжал Жильбер. — Мы спрашиваем тебя: не больна ли ты?
— Почему вы об этом спрашиваете?
— Потому что у тебя очень красные глаза.
— К тому же ты очень бледна, — добавил Дюшен.
— Благодарю вас, господа. Нет, я не больна, но ночью мне действительно было плохо.
— Ах да, твои печали…
— Нет, господа, мои печали всегда одни и те же; и поскольку религия научила меня повергать их к подножию креста, то не бывает дней, когда мои печали заставляют меня страдать больше или меньше. Просто этой ночью я слишком мало спала.
— Понятно: новое жилище, другая постель, — предположил Дюшен.
— К тому же, жилище не из лучших, — добавил Жильбер.
— Нет, господа, не из-за этого, — покачав головой, сказала королева. — Хорошее или нет, мое жилище мне безразлично.
— В чем же тогда причина?
— В чем?
— Да.
— Прошу простить меня за мои слова; но я очень непривычна к запаху табака, который и сейчас исходит от этого господина.
И действительно, Жильбер курил, что, впрочем, было его обычным занятием.
— А, Боже мой! — воскликнул он, взволнованный тем, с какой кротостью с ним говорила королева. — Вот в чем дело! Почему же, гражданка, ты не сказала об этом раньше?
— Потому что не считала себя вправе стеснять вас своими привычками, сударь.
— В таком случае у тебя больше не будет неудобств, по крайней мере с моей стороны, — сказал Жильбер, отбросив трубку, и она разбилась, ударившись о пол. — Я не стану больше курить.
И он повернулся, уводя своего товарища и закрывая ширму.
— Возможно, ей отрубят голову, это дело нации. Но к чему нам заставлять страдать эту женщину? Мы солдаты, а не палачи, как Симон.
— Твое поведение отдает аристократством, — заметил Дюшен, покачав головой.
— Что ты называешь аристократством? Объясни хоть немного.
— Я называю аристократством все, что досаждает нации и доставляет удовольствие ее врагам.
— По-твоему, выходит, что я досаждаю нации, поскольку прекратил окуривать вдову Капет? Да полно тебе! Видишь ли, — продолжал достойный малый, — я помню и свою клятву родине, и приказ моего командира. Приказ я знаю наизусть: «Не позволить узнице бежать, не позволять никому проникать к ней, предотвращать всякую переписку, какую она захочет завязать или поддержать, и умереть, если надо, на своем посту!» Вот что я обещал, и я это выполню. Да здравствует нация!