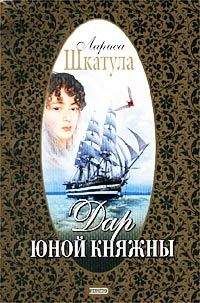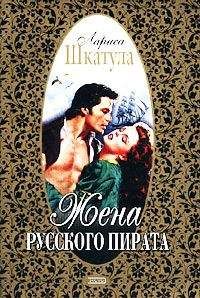На небольшой каменистой косе, надежно скрытой от людских глаз широким поясом камышей, размещалось два небольших дома и капитальный сарай. Камыши окружали косу с трех сторон, открывая лишь выход к морю. Заметить его можно было, подъехав вплотную к берегу.
В сарае Черный Паша прятал свой товар, в одном из домов жил сам, в другом — его друзья-товарищи, в основном, холостяки. Женатые жили с семьями в небольшом поселке, в нескольких километрах от своего лагеря. Собирал их атаман без особых трудностей: по первому же сигналу его воинство вскакивало на коней и мчалось к месту сбора.
В военной неразберихе, в толчее, в массовом перемещении людей с места на место эти волки от войны выискивали свои жертвы, хватали и скрывались в камышах неузнанные, ненайденные. Кому война, а кому — мать родна. Конечно, они знали, что рано или поздно установится такая власть, которая не потерпит их разбоя, будет вести счет людям и перекроет границы на морях. Потому спешили навеселиться, нагуляться, а потом и уйти подальше, хоть в тот же Стамбул. С деньгами-то, с золотом они в любом месте земли будут желанны…
Наконец из камышей вынырнул верховой. "Батя!" — узнал Паша, с удивлением разглядывая появившуюся следом пеструю повозку с надписью "Цирк", которой правил Васька-Перец.
— На кой черт вы тащили эту телегу, — начал было он.
— Да ты внутрь загляни! — восторженно крикнул ехавший следом за повозкой контрабандист по кличке Бабник. Для защиты от его домогательств Черному Паше приходилось держать прекрасных пленниц под охраной. Он давно бы избавился от Бабника — кто же захочет иметь козла при капусте? Но Бабник был надежным товарищем, скрупулезно честным, метким стрелком и отличным мореходом. То есть имел массу достоинств, перевешивающих эту его всепоглощающую страсть к прекрасному полу.
Паша заглянул в повозку. Улов и вправду был неплохой. Вон та, самая молодая, синеглазка, — хороша! Туркам — что в гарем, что в дом терпимости, — заплатят, сколько скажет. Вторая, видимо, чуть постарше, но такая хрупкая, изящная. Наверняка из благородных. Эту он итальянцам предложит. Их богачи очень аристократок любят. А если она ещё и с титулом, вдвое дороже пойдет.
— А это что такое?! — Черный Паша заметил у третьей пленницы разбитую губу. — Бабник, твоя, что ли, работа? Я же предупреждал: товар портить не смейте!
— Моя, — помрачнев, кивнул тот. — Так ведь царапается, точно дикая кошка.
И, сверкнув глазами, добавил восхищенно:
— Ах, какая кошка!
Черный Паша усмехнулся и в который раз подивился: вроде, неплохой мужик Бабник, все при нем: и сила, и стать, а поди ж ты, не нравится бабам. То есть какая, может, и счастлива была бы его вниманием, так ведь этот по себе не ищет! Нравятся ему женщины все больше гордые, неуступчивые, такие, что себе цену знают. Черный Паша проследил за горящим взглядом Бабника. Понятно, кого выбрал! Сейчас, небось, просить будет…
— Слышь, Паша, будь другом, а?
— Ты же знаешь, Гошка, не мной придумано, сами решали. Сколько за неё Исмаил-бей отвалит… А это, если помнишь, деньги общие…
— Знаю. Я заплачу, сколько скажете! Все, что у меня есть, отдам! Назови цену.
От возбуждения Бабник чуть из сапог не выпрыгивал. Черный Паша видел его всяким, но готовым отдать все? За бабу? Да что же это там такое особенное? Он и сам себе не признавался, что медлит как следует рассмотреть третью пленницу. Ту, которую так вожделеет Бабник.
— Ну-ка, вытащи её на свет божий, поглядим, что за жар-птица тебя разума лишила?
Атаман контрабандистов ещё ничего не решил, но Бабник истолковал его слова в свою пользу и кинулся вытаскивать Катерину из повозки. А Черный Паша с изумлением почувствовал, что у него забилось сердце. Сердце? Разве не превратилось оно в камень давным-давно? Он ещё не разглядел её всю, а уже, будто в весеннем вихре лепестки яблонь, кружились в его голове детали: выбившаяся из-под платка прядь, тонкая лодыжка, грудь в разорванной рубашке. И отчего-то он знал (предчувствовал?): это ОНА. И все медлил, медлил, как будто можно отсрочить судьбу. Так смертник ждет и боится встречи со своим палачом.
Ее поставили на ноги. С бледного красивого лица ненавидяще глянули черные глаза. Очи. И он понял, что не ошибся. "Вы сгубили меня, очи черные, очи черные, непокорные!" — всплыло навязчивым припевом. Кажется, так пели одесские цыгане?
"Ой, пропала ты, Катерина, ой, лышенько, недолго любила ты матроса своего, ой, коротко счастье женское!" — так причитала она про себя, сердцем чувствуя в стоящем перед нею черном человеке свою судьбу, нежеланную, нежданную, но неотвратимую, как смерть.
Что-то враз надломилось в ней. Она стояла, молчала и горестно качала головой в такт своим мыслям; "Пропала ты, Катя, пропала!"
Не видел бедный Герасим, лежа в повозке беспомощный, униженный, как два мужика, два самца, будто на базаре, разглядывают, раздевают глазами его любимую. Но вот, насмотревшись на Катерину, соперники встретились взглядами и поняли: отныне они враги.
— Я первый её заметил, — недвусмысленно трогая висящий у пояса кинжал, сказал Бабник.
— Ну и что же? — оскалил зубы Черный Паша, кивая на свой шестизарядный Смит-Вессон. И расхохотался. Неожиданно громко и зло.
— Ты чего? — попятился от него Бабник. Но Черный Паша, не глядя в его сторону, уже приказывал:
— Эту, — он кивнул на Катерину, — ко мне в дом, да свяжите покрепче, уж больно ценная добыча!
Батя хихикнул.
— Тебе смешно? — посуровел атаман.
— Да нет, это я так… Она же, стерва, Перца подстрелила.
Перец, тот самый, что правил цирковой кибиткой, отвернулся, демонстрируя равнодушие. Он точно знал — сочувствия не дождется.
— Пусть не подставляется, — отмахнулся Черный Паша и, заставляя себя не думать пока о НЕЙ, скомандовал: — Теперь давайте остальных.
Первым вытащили Герасима. Батя развязал ему ноги, чтобы атлет мог самостоятельно вылезти из повозки.
Первой, что он увидел, была любимая, которую двое контрабандистов уводили в дом.
— Катя! — рванулся он ей вслед.
— Попрощайся со своей Катей навек! — буркнул Бабник, заодно подыгрывая Паше в тщетной надежде, что тот в последний момент передумает. — Теперь о ней другие позаботятся.
Злость и обреченность придали Герасиму силы. Он изловчился и ногой ударил Бабника в пах. Тот дико взвыл и упал, катаясь по земле. Стоявший рядом Батя мгновенно среагировал: как на животное накинул на Герасима аркан, свалил и в считанные секунды связал атлету ноги, а когда услышал в свой адрес соленое словцо, заткнул рот, приговаривая:
— Ай, как нехорошо ругаться! А если женщины услышат?