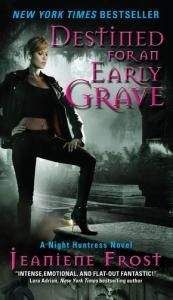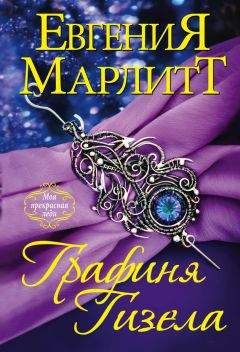— Графиня, слышите ли вы меня? — повторял Оливейра громче, между тем как сильный аккорд заглушал его слова.
Гизела медленно наклонила голову, не повертывая к нему лица.
Голос португальца раздался над самым ее ухом.
— Вы, графиня, поступаете так же неблагоразумно, как и те, что там веселятся, — сказал он шепотом. — Вы музыкой хотите заставить себя позабыть о буре, которая не замедлит разразиться… — Он помолчал с минуту… — Неужели вы ждете, пока не хлынет дождь? — продолжал он настоятельным тоном, желая услышать звук ее голоса.
— Я не могу уйти, не предупредив госпожу фон Гербек, — возразила Гизела. — Она, конечно, только посмеется над моими опасениями, потому что вы сами видите, что здесь никто не помышляет о буре.
Она немного повернула голову в его сторону, не поднимая глаз. Малейшее движение ее могло привлечь внимание гувернантки, которая не переставала весело болтать со своей приятельницей. Молодая девушка инстинктивно боялась, чтобы подозрительный ненавистный взор толстухи не упал не этого человека, стоявшего так близко к ней и говорившего с ней таким глубоко взволнованным голосом.
Он протянул руку в ту сторону, где сидел князь, неподалеку от одного из буфетов. Перед его светлостью стоял министр с полным стаканом в руке. Его превосходительство, как казалось, был в столь оживленном настроении, что напрасно бы в его жестах, в его улыбающемся лице стали искать равнодушно-неподвижную маску дипломата. Вероятно, в эту минуту он провозглашал тост, полный веселости и остроумия, предназначенный лишь для уха его светлости и некоторых из близстоявших кавалеров, — члены этого маленького избранного кружка смеялись и, обменявшись выразительными взглядами, подняли стаканы.
— Вы правы, там никто не хочет думать о непогоде, нависшей в воздухе, — сказал португалец. — Но буря разразится, — прервал он сам себя, опуская голову так низко, что молодая девушка почувствовала его дыханье на своей щеке. — Графиня, вернитесь в ваш тихий Грейнсфельд! — прошептал он с мольбой в голосе. — Я знаю, что эти тучи несут удар и для вас.
Смысл его слов был темен, как прорицание… Какие противоречия скрывались в намерениях этого странного человека! При каждой встрече он обнаруживал неприязненность к ней, но в то же время оберегал ее от падения в каменоломнях и теперь, предостерегая о наступлении грозы, просит скорее укрыться от нее… И почему именно ее?.. Там только что промелькнула красная шапочка… А-а, прекрасной, темно-каштановой кудрявой головке немного времени понадобится, чтобы скрыться от непогоды, — Лесной дом так близко, в самый момент опасности можно спасти свою лучшую драгоценность под собственной крышей…
Сердце ее наполнилось несказанной горечью.
— Я поступлю так, как другие, и преспокойно останусь здесь, — добавила она мрачно, почти жестким голосом. — Если гроза эта несет удар и для меня, то и я с твердостью буду ожидать его.
Она почувствовала, как спинка скамейки задрожала под его рукой.
— Я полагал, что говорю с женщиной, которая вчера, по собственной воле, шла, опираясь на мою руку, — проговорил он, после небольшого молчания. Этот неуверенный тон показался Гизеле глубоко раздражительным. — К ней обращаюсь я, несмотря на только что испытанный решительный отказ, вторично… Графиня, последний раз вы видите меня близ себя — через час вам станет известно, какого жестокого противника вы имеете во мне.
— Мне это известно и теперь.
— Нет, это не так, если вы столь упорно отказываетесь исполнить мою просьбу… Я был дурным актером — не выдержал роли, забыл ее… Рука, которая должна нанести удар, дрожит… Я могу только сказать еще раз: «Бегите, графиня!»
Она обернулась и взор, полный душевной муки, устремила в лицо неумолимого противника.
— Нет, я не уйду! — проговорила она дрожащим голосом, с горестной улыбкой на судорожно подергивающихся устах, — Скажите лучше, что вы недостаточно резко высказывали до сих пор свое презрение ко мне!.. Но будьте покойны, я могу вас уверить, что презрение это вполне прочувствованно мной… Я не уйду!.. Наносите свой удар! В эти немногие дни я научилась страдать, я знаю слишком хорошо, что значат душевные муки!.. Вы сами приучили меня к этим ударам — вы должны увидеть, я с улыбкой принимаю их!
— Гизела!
Имя это, как стон, слетело с его уст. Руки его коснулись золотистых, рассыпавшихся по плечам волос девушки, и страстным движением он прижал их к своему лицу.
— Я был слаб, а теперь буду еще слабее, — продолжал он, медленно поднимая голову. — Говорят, что в предсмертный момент душа утопленника ощущает все наслаждения и горести, испытанные ею в жизни, — я стою теперь перед этим решительным последним мгновением, и в душе моей проносится все, что было радостью и горем моей жизни.
Он снова приблизил лицо свое к лицу девушки, которая с замирающим сердцем не спускала с него глаз.
— Посмотрите на меня еще раз так, как вчера, когда мы стояли над пропастью, — продолжал он. — За долгие, скрытые страдания только эту блаженную секунду!.. Графиня, жизнь моя на юге была полна дикой деятельности и опасных приключений. В борьбе со стихиями я пытался заглушить крик душевной муки… Гоняясь день и ночь за тиграми и медведями, я познал наслаждение видеть у ног убитого врага, но никогда у меня не хватало мужества подстрелить лань — мне чудилась душа в ее кротких глазах…
Он замолк.
Тихая улыбка играла на его красиво очерченных губах; взор девушки с выражением горячей нежности устремлен был на него… Глубокий вздох поднял его широкую грудь, улыбка исчезла, он провел рукой по лбу, как бы желая отогнать небесное, упоительное сновидение.
— Я взял на себя задачу, — продолжал он еле слышно, — вывести не свет скрытые преступления, настигнуть и уничтожить врага, в своем непомерном высокомерии глумящегося над остальным человечеством, — но судьба указывает мне также и на бедную лань, с ее кроткими глазами, на дорогое мне существо, на мою первую и единственную любовь, и приказывает мне собственной рукой нанести удар этому существу! Гизела, — прошептал он в порыве нежности, близко наклонясь к ее уху, — я принял тогда молча ваше обвинение в строптивости на лугу перед Лесным домом, но это было нечто другое, я не мог вынести, чтобы руки другого, даже руки того бедного ребенка, обнимали мою святыню, обожаемое мною существо, до которого я сам никогда не должен был прикоснуться; в каменоломнях сколько душевной борьбы перенес я, отталкивая ваши руки, тогда как душа моя только и жаждала того, чтобы хоть единственный раз в жизни прижать вас к своему сердцу, — даже теперь, несколько мгновений тому назад, я стоял здесь почти готовый на то, чтобы увести вас отсюда в мое пустынное жилище… Эти мысли и желания, я знаю, безумны, — ваша отважность будет слишком жестоко наказана, через час, я уверен, вы оттолкнете меня, как вандала, разбившего в прах вашу святыню…