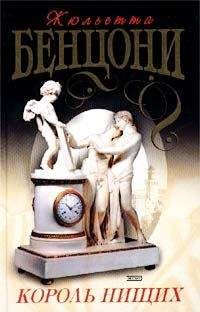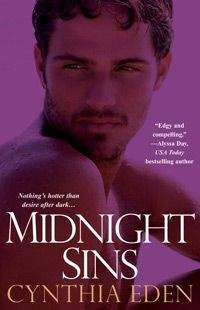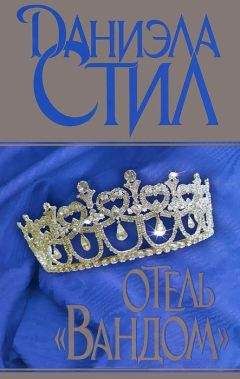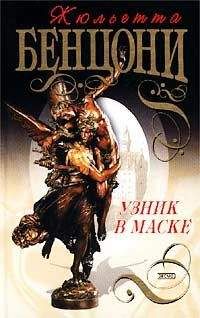Во Франции Мазарини вынужден был считаться с Конде, занимавшим благодаря своим победам прочное положение и обладавшим не только непомерным честолюбием, но и таким же аппетитом: он беспрестанно требовал титулов и должностей, не скрывая, что охотно занял бы пост первого министра.
Но в этот период истории свою самую большую победу Мазарини одержал над регентшей. Эту испанку, непоколебимо преданную интересам своей родины, он сделал настоящей королевой Франции, которая была готова уничтожить все преграды ради будущей славы своего сына и, устранив из своей жизни тех, кто ей служил, любил и поддерживал ее, прислушивалась теперь только к советам кардинала. Поговаривали даже, что она тайно с ним обвенчалась… И тем не менее власть Мазарини не была прочной. В последнее время взоры парижан все чаще стали обращаться к башне Венсеннского замка, где пребывал в заточении их любимый принц, самая блестящая жертва Мазарини.
Во всяком случае, новость о его побеге достигла Парижа быстрее, чем лошади Сильви. Когда она подъехала к Отелю Вандом, ей пришлось пробираться сквозь настоящую толпу людей, которые после вечерни поспешили сюда, чтобы выразить свой восторг матери их кумира. Ссылаясь на праздничный День, добрые парижане были склонны усматривать в бегстве герцога де Бофора чудо, сотворенное Святым Духом. По крайней мере, требовалось божественное вмешательство, чтобы усыпить бдительность стражи, буквально не спускавшей с него глаз, и снабдить Франсуа де Бофора крыльями. Но толпа пропустила экипаж Сильви, которая после замужества стала поддерживать благотворительные традиции всех герцогинь из фамилии де Фонсом с той пылкостью, какую она сама вкладывала во все дела. В ее особняке на улице Кенкампуа, как и в поместье в Конфлане, любой нищий получал помощь и поддержку. Кроме того, в сопровождении двух лакеев, несущих огромные корзины, она навещала тех, кто был прикован болезнью к своему убогому ложу; их адреса давал ей господин Венсан, знавший Сильви с детства. Поэтому Грегуару оставалось только крикнуть; «Дорогу госпоже герцогине де Фонсом!», чтобы толпа с одобрительным ропотом расступилась.
В комнате госпожи де Вандом скопилось множество гостей, и все они говорили одновременно. Здесь собрались друзья, и мать Франсуа душили в объятиях, несмотря на усилия епископа Лизье и господина Венсана, старающихся защитить ее от натиска собравшихся. Сильви даже не пыталась к ней пробиться и подошла к госпоже де Немур.
Элизабет сияла от радости и без конца рассказывала о том, как она с помощью нескольких преданных друзей сумела вызволить брата из королевской темницы.
— Пирог! Обычный пирог, с помощью которого я и разыграла этот фарс! В нем спрятали очень прочную шелковую веревку с крюком, чтобы зацепить за карниз, два кинжала и кляп, предназначенный для полицейского пристава Ла Раме, которого Шавиньи, комендант Венсеннского замка, приставил охранять моего брата.
— Это, наверное, был огромный пирог? — спросил кто-то.
— Да, громадный, но Франсуа просил испечь пирог на двадцать человек, с учетом того, что десерт с его стола всегда доставался охранявшим брата солдатам.
— Но разве вы не должны были заручиться поддержкой сообщника в самом замке? — поинтересовалась незнакомая Сильви дама. Кстати, она сама и дала ответ на собственный вопрос:
— Это вещи, о которых никому не говорят, мадам. Подумайте, речь идет о жизни многих людей! Должно быть, кардинал Мазарини в бешенстве…
— О, и вы здесь, милая Сильви! — воскликнула Элизабет, которая только что ее заметила. — ДРУЗЬЯ мои, я вас оставлю ненадолго, мне необходимо переговорить наедине с герцогиней де Фонсом!
Взяв подругу под руку, Элизабет де Вандом заперлась с ней в ванной комнате своей матери; там они присели на край массивной деревянной ванны, по форме похожей на бочку.
— Я очень хотела бы просить вас оказать мне услугу, дорогая моя. Я бы хотела, чтобы вы отправились в Пале-Рояль и понаблюдали, что происходит у королевы…
— Это я и хочу сделать. Кстати, я туда и ехала, когда, проезжая мимо Венсеннского замка, узнала о бегстве Франсуа и тотчас направилась к вам. Я собиралась поехать в Конфлан к малышке Мари, но вчера получила записку от королевы. Она просила меня приехать во дворец, чтобы навестить юного короля. Он болен и требует меня к себе.
— Но когда вы вернетесь, вы нам расскажете, как там воспринимают известное событие?
— Если смогу. Это зависит от того, когда я покину дворец. Если время будет позднее, то я пришлю вам записку, как только вернусь на улицу Кенкампуа. Сегодня вечером в Конфлан я не поеду…
— Вы прелесть! Надеюсь, у вас хорошие новости от вашего супруга?
— Пишет он мало, это его недостаток, но я знаю, что у него все хорошо. Он по-прежнему с принцем де Конде где-то между Аррасом и Лансом. Я и не думала, что так трудно быть женой воина: я так редко вижу его!
— Вы очень его любите, правда?
— Очень…
Сильви никому не могла бы рассказать, что часто упрекает себя за то, что не в силах любить мужа сильнее из-за того, что в глубине ее души навечно спрятан любимый образ. Госпожа де Немур внимательно посмотрела на погрустневшую Сильви, но больше ни о чем не спросила.
Из парадной залы послышался чей-то звонкий голос, и Элизабет сразу вскочила. Она немного похожа на боевую лошадь, услышавшую звук трубы, подумала Сильви.
— Ах! Это аббат де Гонди! Я… мы ждали его раньше!
И она упорхнула, прошелестев платьем из синей тафты и оставив свою подругу размышлять над тем открытием, которое сделала Сильви. Почему Элизабет, будучи женой одного из самых привлекательных мужчин Франции, увлеклась этим маленьким, суетливым, нервным, мелочным, но остроумным священником, которого в свете считали ее любовником? Правда, герцог де Немур всегда изменял Элизабет, но всем известно, что вельможные браки редко бывают счастливыми… Сильви, решив, что расцелует мать Франсуа потом, села в карету и направилась в Пале-Рояль, где ее уже ждали. Но эти визиты не приносили ей прежнего удовольствия. Не будь маленького Людовика, которого она любила почти материнской любовью, Сильви, наверное, отказалась бы от звания придворной дамы; его присвоили ей вместо звания чтицы, но это мало что изменило в обязанностях Сильви при королевских особах: иногда она еще читала королеве, но особенно много времени проводила с юным королем, с которым ее по-прежнему связывала музыка.
Для обоих эти занятия были счастливыми часами. Действительно, кроме торжественных церемоний, на которых были обязаны появляться маленький король и его младший брат Филипп, Людовик, обожавший мать, видел ее только раз в день — на утреннем выходе, имевшем место между десятью и одиннадцатью часами. В это время Анна Австрийская принимала придворных дам и высших должностных лиц при короле. К ней приводили сыновей, и Людовик имел привилегию подавать матери рубашку. Потом дети возвращались к себе в покои, где Делали все, что хотели, тогда как их мать, занятая заседаниями Королевского совета, богослужениями, выездами в столицу, придворным кругом, обедами и увеселениями, вела весьма насыщенную жизнь, которая постоянно заставляла Анну Австрийскую ложиться далеко за полночь. Она продолжала жить в прежнем испанском ритме… При таком режиме королева располнела, стала толстой и утратила былую красоту, хотя еще и сохранила свежесть кожи. Она была беспечна и, хотя всей душой любила сыновей, почти не занималась ими, довольствуясь тем, что видела их красивыми и нарядно одетыми в торжественные минуты, и нисколько не интересовалась, чем они занимаются вдали от нее.