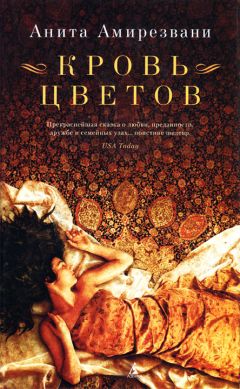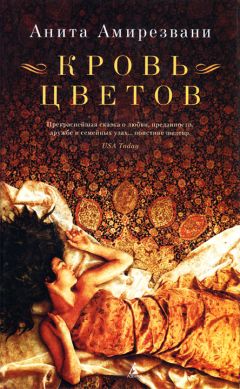— Добрая ханум, что вас терзает? Как я могу помочь? — спрашивал нищий, размахивая своим обрубком.
Предложение помощи от такого оборванца заставило матушку рыдать еще громче. Я попыталась обхватить ее руками, но она уклонилась от моих объятий.
— Биби-джоон, мы найдем способ… — говорила я, сжимая зубы, чтоб поберечь челюсть. Но говорила неубедительно, потому что едва ли верила в это сама.
— Нет, не найдем, — отвечала она. — Ты не понимаешь, что натворила. Мы теперь на улице, и мы можем умереть.
— Но…
— Нам надо вернуться в нашу деревню, — сказала матушка. — По крайней мере, там у нас есть крыша.
Я представила, как мы уходим из города так же, как и пришли, по мосту, построенному для шаха. Но я знала, что ступлю на этот мост не раньше, чем вернусь посмотреть на город — только взглянуть на его бирюзовые и лимонные купола, греющиеся в утреннем свете. А потом я вообразила еще несколько шагов, только чтобы остановиться в одной из арок моста и охватить глазами весь город. Я стала подобна соловью над розой-Исфаханом, воспевающему вечную любовь к его красотам.
— Я не хочу уезжать, — сказала я.
— Не говори со мной больше, — отрезала матушка.
Она зашагала прочь, а я за ней, в то время как добрый нищий упрашивал нас быть снисходительными друг к другу.
Ее шаги вели нас к Лику Мира, где жестокий ветер закручивал пыль площади. Мужчина обогнал нас, потирая руки и дрожа. Торговцы, словно беспощадные москиты, жужжали нам в уши. Ножовщик совал нам под нос «клинки, острые, как у Сулеймана».
— Оставь нас, у меня нет денег, — наконец огрызнулась я. Челюсть заболела даже от стольких слов.
— Не ври, — грубо ответил он, уходя.
Порыв холодного ветра швырнул пыль нам в лица. Матушка подавилась ею и начала кашлять. Я подозвала продавца кофе, чтобы он принес две курившиеся паром чашки, и заплатила ему одной из наших драгоценных серебряных монет. Ножовщик через улицу разглядел мое серебро и клинком послал слепящий блик мне в глаза.
Я набрала воздуху для проклятия, но матушка остановила меня:
— Может, ты для разнообразия помолчишь?
Устыженная, я втягивала кофе едва размыкавшимися губами. Что делать потом, я не знала. Знала только — надо что-то придумать, пока матушка не начала искать погонщика верблюдов, чтобы отправиться назад в нашу деревню.
— У меня есть мысль, — сказала я.
Когда я встала, матушка последовала за мной, и мы пробирались через скопище лавок, пока я не разглядела стайку женщин, разложивших свои товары возле базарных ворот. Одна предлагала расшитое древо жизни, наверное лучшее из того, что было в ее доме. Другая продавала сотканные ею одеяла. Я искала Малеке и нашла ее, сидящую на корточках возле двух ковров. Увидев меня, она вскочила в ужасе.
— Да сохранит тебя Аллах! — воскликнула она. — Что случилось?
— Малеке, — сказала я, — ты можешь нам помочь?
Она притихла на секунду, разглядывая мое разбитое и вспухшее лицо.
— Что ты сделала?
Я не удивилась, что винит она меня, потому что знала, как выгляжу.
— Гордийе решила, что мы слишком тяжкое бремя, — ответила я.
Глаза Малеке сузились. Ты навлекла позор на семью?
— Конечно нет! — вмешалась матушка. — Моя дочь никогда такого не сделает.
Малеке устыдилась, ибо моя матушка явно выглядела уважаемой вдовой в черных траурных одеждах.
— Они разъярились из-за моей ошибки в оценке ковра, — сказала я, что отчасти было правдой; я не хотела рассказывать ей о моем сигэ, боясь, что упаду в ее глазах. — Малеке, ты не знаешь кого-нибудь, кто приютит двух бедных женщин? Мы сможем заплатить.
Я тряхнула маленьким кошельком, спрятанным в поясе. Я знала, что Малеке нужны деньги, а нам нужна была защита семьи.
Она вздохнула:
— Мой муж все еще болеет, и у нас на четверых всего одна комната…
— Прошу тебя, — сказала я. — Мы можем заботиться о нем, пока тебя не будет.
Малеке медлила, готовая сказать «нет».
— Я знаю, как составлять лекарства, — предложила матушка. — Постараюсь его вылечить.
Лицо Малеке на миг похорошело от надежды.
— А что ты можешь сделать? — спросила она.
— Могу смешать настойку сухих горных трав, исцеляющих легкие, — быстро сказала матушка. Она показала на свой узел. — Тут растения, которые я собрала летом.
Малеке вздохнула.
— Вы помогли мне, когда я была в нужде, — сказала она. — Я не дам вам замерзнуть или умереть от голода.
— Да прольет Господь свое благо на тебя, Малеке! — сказала я.
У нее были все основания не поверить моей истории, но она все равно решилась нам помочь.
Мы с матушкой присели рядом, стараясь помочь продать ее товары. Малеке зазывала проходящих, упрашивая взглянуть на ее ковры. Многие мужчины вместо этого останавливались взглянуть на нее, потому что рот у нее был словно бутон, а улыбка — в жемчугах. Матушка старалась отвлечь их, подробно расписывая достоинства ковра, но мед покинул ее язык. Я вспоминала, как она соблазнила странствующего торговца шелком купить мой бирюзовый ковер, скромно торгуясь, пока не получила свою цену. Теперь она выглядела усталой, и никто не останавливался пошутить с ней подольше. Я сидела на коврах, пока она работала, прижимая руку к отчаянно болевшей челюсти. Единственной, кто что-то продал в тот день, была женщина с одеялами; ее товар был соблазнительней всех.
До позднего вечера Малеке не сбыла ничего, и большинство покупателей уже отправились по домам. Она скатала свои ковры, и мы с ней взвалили на плечи по скатке. Матушка несла наши узелки, и мы шагали за Малеке через базар, к старой площади и старой Пятничной мечети.
Матушка напряженно шла рядом с Малеке. Она не оглядывалась и не смотрела на меня, не спрашивала, как я себя чувствую. Боль в челюсти словно терзала все тело, но ее отчужденность была еще мучительнее.
Когда мы пересекали старую площадь, по которой я столько раз ходила к Ферейдуну, я задумалась о нем и маленькой, усаженной деревьями улочке, на которой стоял его нарядный дом для удовольствий. Он сейчас мог быть именно там, готовясь принять другого музыканта или другую сигэ. Я почувствовала, как у меня все свело внизу живота, словно он вошел туда, и горячая волна расцвела в моем животе и вспыхнула на щеках. Теперь я должна отречься от этих наслаждений и, может быть, никогда больше не испытать их.
Мы шли и шли, пока не оказались почти за городом. Я никогда не знала, что почти рядом с дворцом наслаждений Ферейдуна располагались трущобы с путаными улицами, где жили слуги. Малеке свернула на темную извилистую улочку, сырую и грязную. Над кучами мусора жужжали мухи. Еще зловонней были лужи ночных отбросов, потому что здесь не было стоков для них. Грязные бродячие собаки дрались над помоями, отбегая только из-за камней, которыми швыряли в них мальчишки с немытыми лохмами.