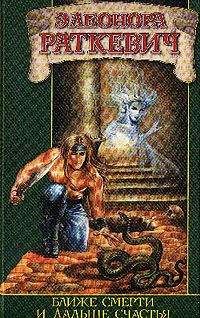умиротворенно вздохнула.
– Сбылись слова Феодосии, матушка.
– А что, Аксиньюшка, сказала-то она тебе? Ты ведь так никому не призналась толком, – встрепенулась София.
– Сказала, что с мужем детей не будет. А от кого другого – рожу. Вот и получилось. От любви ребенок не зачинался. От злобы да мести…
– Зачем ты так говоришь, Аксинья! Ребенок всегда в радость.
– Да?! Не от мужа законного, а от полюбовника ребенок тоже радость?! Как по-твоему? – гневно напустилась на невестку Аксинья, будто тихая Софья в чем виновата была.
– Ты потише будь, – урезонила мать. – Ребенок от мужа твоего законного, по-другому и думать не смей. Отправили Григория на каторгу – дело иное. Вырастим… Добра накоплено много. С голоду не помрем.
Аксинья вспоминала, как носила она детей от Гриши, детей, которым не суждено было явиться на свет – берегла себя, как тонкостенный кувшин. С радостью гладила свое пузо, ощущая, как зарождается в ней жизнь. Муж обнимал ее, заботился – даже ведра из рук выхватывал!
Сейчас же первые три месяца она и не чувствовала ничего, уйдя в горе свое неисчерпаемое, не замечая зреющей внутри новой жизни. Потом увидела, как проступает живот на исхудавшем теле, ощутила другие, знакомые уже признаки, вспомнила, как мучительно рвало ее на крыльце темницы.
Долго она хохотала сама с собой, будто умалишенная.
– Зачем мне строгановское отродье? Как растить без мужа ублюдка-то?
Тайком от матери и Софьи зелье себе сварила. Выбрала наивернейший рецепт. После рассказа матери кольнуло сердце. Ее ребенок, ее кровь. Кто отец – неважно. Дело десятое.
Холодная зима заканчивалась, выкосив изрядно народ в Еловой. Голод и липнущие болезни не оставили шансам малым и старым. Умер староста Гермоген, усохший до самых костей; умер бортник Иван, подцепивший грудную болезнь; умерла древняя бабка Матрена; родами чуть не ушла к праотцам Зоя, своего новорожденного сына сберечь она не смогла, померло двое деток растерявшей щеки Дарьи Петуховой. Умерла старшая сестра Аксиньи, Анна вместе с двумя младшими детьми. Каждая семья отдала свою дань поганой зиме.
В Соли Камской ушли на небеса родители зловредного Никиты, его двухлетняя дочь. Не пощадила смерть детей приказчика, отца Михаила и еще сотни три солекамцев.
Еловским старостой стал бондарь Яков. Деревенские не возражали: прижимистый, спокойный, он оживлялся только на кулачных боях. Яшка Петух был старше всех деревенских мужиков, хоть не исполнилось ему еще пятидесяти лет. Никого он сроду не обижал, был справедлив и умел договориться и с дьяками, и с целовальниками, и с лихими казаками.
Аксинья глотала слезу: отец должен был стать старостой деревенским. Мудрый, дальновидный, любивший старину русскую… Все судьба…
* * *
Прикрыв стыд широким сарафаном, а греховное нутро – покорностью, шла Аксинья на поклон. Она брела до Александровки, медленно передвигала распухшие ноги, которым малы стали вытертые сапоги. Давно, целую жизнь назад дорога была быстрой и веселой, с шутками, смехом, песнями. С гордо поднятой головой.
Вздохнула Аксинья о тех счастливых днях, о беззаботной Ульянке. Пышное тело истлело давно, а душа корчилась в адских муках.
– Прости нас, Господи Всемогущий!
Вскоре показалась деревушка. Бедностью веяло от каждого ветхого домишки. Уцелевшие собаки лаяли тихо и неохотно. Незнакомая баба с подозрением уставилась на Аксинью. В голодные и неспокойные времена всяк сидел дома.
Прислонившись к сараюшке, Аксинья перевела дух. Должна. Ради дитятка. Вымолить.
Посвистывающий ветер нагло гулял под ее ветхим тулупом. Аксинья выбрала самую скудную одежонку. «Чтобы жальче было и тати не отобрали», – скривила иссохшие губы.
Мать заголосила, услышав о решении дочери. Одна, в Александровку, к попу-пьянчуге… От греха все равно не отмыться, не отскрести деготь от ворот и тела.
На поседевшей бороде повисли крошки хлеба. Белый, давно такого едать не приходилось. Набрякший нос, бегающие глаза, язык, беспрестанно облизывающий губы.
– Отче! – Аксинья хотела поклониться в пояс, но живот разрешил ей лишь легкий наклон.
– Аксинья-я-яя, здравствуй, доченька. – Отец Сергий оглядывал молодуху и чуть не причмокивал языком от удовольствия. – Исповедаться надобно доброму христианину раз в месяц. А тебе, знахарство и колдовство творившей… В грехах погрязшей…
Все припомнил он Аксинье, все те годы, когда ускользала она в Соликамск, влекомая красотой убранства храма, мягкостью отца Михаила. Давно смотрела с усмешкой на пьянчужку, далекого от божьей благодати.
– Каюсь, – решилась она и бухнулась в ноги. Тусклый свет с трудом проникал в неказистую часовенку. Светлые бревна, мох, торчащий из щелей. В спешке строили александровцы дом божий. У еловчан и такого не было.
– С магометанином жила… Каюсь… Похотью была томима… Каюсь… В гневе своем каюсь. – Чо она говорила, Аксинья и сама не помнила. Гордыня ее скукожилась в тугой комок и давила-давила, лишала воздуха.
– Со Степкой была? Со Строгановым? Говори! – таинство исповеди переплавлялось во что-то иное. Липкое, любопытное, гадкое. – В блуде состояла? В кровати возлежала? В тайные места проникать дозволяла?
Вспомнилась Аксинья давняя исповедь, когда огорошил ее, молодую жену, священник.
Смирение застыло на ее лице, обращенном в утоптанный истовой паствой пол, ноне было смирение в мыслях: «Не все попадья батюшке дает, о чем мечтает он. Бесится отец».
– Наговор это, отец Сергий, – подняла она голову и вгляделась в опухшее лицо. Спохватилась, уронила красивую голову. Нет покорности в ней. Одна свобода лесная, нашептанная Глафирой.
Запоминала, сколько поклонов земных ей бить надобно. Сколько дней на хлебе и воде сидеть. Сколько каяться и молиться. Но это потом. Когда дитя греха вылезет за благословением божьим.
* * *
– Вжжик-вжжик. – Васька раскручивал брунчалку, и, склонив набок голову, прислушивался. В этот момент он, с темными кудрями, безмятежными чертами лица, точеным носом, так был похож на своего отца. Как быстротечно время…
Любимую игрушку четырнадцатилетнему Федору давно, целую жизнь назад смастерил отец. В куриной косточке провертел Василий два отверстия и продел в них тонкий кожаный ремешок. Федя игрушку туда-сюда вращал, ремешок натягивался, и брунчалка издавала низкий гул. Целыми вечерами крутил он в руках игрушку и так внимательно озирался по сторонам, будто ждал, что все бесы кинутся врассыпную от резкого звука.
Аксинья спрятала игрушку под лавку и забыла о ней. Брат беспокойно обшаривал всю избу, пока не раздавил своей крупной ступней брунчалку. Аксинья подняла такой рев, что отец пришел из коровника и пообещал, что сделает новую. Федя ее и в руки не взял и дулся на младшую сестру весь зарев [66].
Теперь та брунчалка, что с любовью смастерил Василий, доставляла удовольствие внуку. Когтистая лапа Уголька, крутившегося неподалеку, поддела шнурок, и игрушка полетела в дальний угол избы.
– Вася, дай мне ее, – попросила