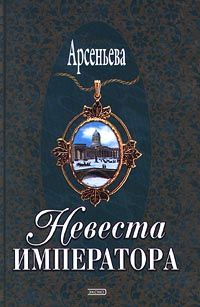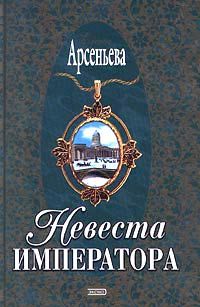Князь Федор криво усмехнулся: вот в этом нет никаких сомнений! Но как же нашел его Бахтияр? Верно, выследил Савку. Но почему? Как он мог связать слугу, коего никогда не видел, с его якобы погибшим господином, появления которого нигде, кроме как на том свете, и вообразить нельзя?! Или это случайность? Или Бахтияр следил за Сивергой да случайно обнаружил соперника? Нет, что толку ломать голову. Насколько князь Федор знает тщеславного черкеса, тот не замедлит и сам похвалиться.
Он угадал.
– Думаешь небось, как я тебя отыскал, проклятый душман [71]? – ухмыльнулся Бахтияр. – А вот как!
Он медленно потянул что-то из-за пояса, и князь Федор невольно покачнулся. Он не верил своим глазам: тот самый зеленый платок, тот самый…
– Узнаешь? – прошипел Бахтияр, вертя в воздухе драным лоскутом, и швырнул его князю Федору: зеленое облачко взмыло и медленно опустилось на пол. – А это узнаешь? – Он выдернул из-за пазухи лоскут поменьше – тоже зеленый, тоже шелковый… – А ну, приложи один к другому – увидишь, что будет!
Князь Федор не шелохнулся. Ему не нужно было соединять лоскуты – зачем, если он и так знал, что это один и тот же платок, им же самим разорванный вьюжным декабрьским утром, в заснеженном ложке близ Раненбурга… Ах, черт! Федор оставил этот кусок шелка Маше на поляне, возле чума Сиверги, как знак своего присутствия, а пакостник Бахтияр украл его – ну и свел концы с концами…
«Бахтияр, конечно, нечисть, – словно бы сказал в его голове чей-то укоризненный голос. – Но ты тоже хорош! Зачем платок оставил?! Вот уж правда что: кабы у дятла не свой нос, кто б его в дереве нашел? Дятел ты – дятел и есть!»
Да, утер ему нос Бахтияр! Опять с ним посчитался. Эк у них все по нулям выходит: сначала Федор одержал верх, в Каменном саду спасши от Бахтияра Машу и едва не изувечив ошалевшего черкеса. Через несколько месяцев в приснопамятной конюшне Бахтияр оставил его валяться в грязи и не прибил до смерти, только повинуясь приказанию своей госпожи. Вскоре князь Федор взял реванш, и, как бы ни сложились события в дальнейшем, он и перед смертью расхохочется, вспоминая «зеленое знамя ислама» на снегу и рев Вавилы: «Аллах акбар!» Но Бахтияр, увы, оказался не дурак, и, похоже, настал его черед смеяться над противником. Вот сейчас выпалит ему в грудь из одного да другого дула этого роскошного, верно, принадлежащего самому светлейшему охотничьего ружья – и все терзания совести, все муки нерешенных проблем улетят от князя Федора, как улетает дым от погасшего костра! Ну, знать, такая судьба…
Он вдруг распрямил плечи, глубоко вздохнул. Почему-то сделалось легче, лишь возложил он вину за свершившееся на судьбу. Ясно, что только один из них выйдет из этой избушки – ну так пускай жребий небес рассудит, кто это будет.
– Во всем виновен ты! – с ненавистью бросил Бахтияр. – С самого начала – ты!
– Надо полагать, я первый был, кто тебе рыло расквасил? – не мог удержаться князь Федор, чтобы не задраться, и ствол с силой вонзился в его грудь, а палец Бахтияра заплясал на курках.
И вдруг черкес отстранился:
– Думаешь, я тебя за то поклялся убить, что ты у меня ее отнял? За женщину биться – обычное дело, на то она и женщина, а мы – мужчины. Нет… ты ей зла желал!
– Ну да, я – зла, – с издевкой кивнул князь Федор. – А ты, конечно, добра, когда ее насилкой брал? Ничего себе добро!
– Так это ж потом! – вскричал Бахтияр возмущенно. – Потом насилкою! А сначала она… – Черкес умолк, словно подавился.
Князь Федор отпрянул. Кровавая мгла затянула взор. Сейчас Бахтияр скажет – и это будет последнее слово в его жизни, потому что даже если он выстрелит в князя Федора, тот успеет перервать зубами его горло за это позорное, роковое слово!
Но Бахтияр не говорил ни слова, и красная пелена мало-помалу сошла с глаз, Федор мог видеть – и с недоумением увидел, что черкес, хотя и держит руку на спусковых крючках, немного приопустил ружье и с тревожным, болезненным любопытством вглядывается в лицо соперника.
– Одного не пойму, – пробормотал черкес, – коли ты за ней сюда пришел, так зачем таишься и ее терзаешь неизвестностью?
Слова Бахтияра были Федору как укус собаки. И самое ужасное, что недоумение сие было справедливым. Сейчас, перед лицом смерти, в оба глаза глядящей на него сквозь черные стволы ружейные, князь Федор вдруг осознал, каким же он был бессердечным дураком. И сам мучился, и ее, голубушку, мучил. Да что за беда? Сознался бы в грехе, а когда б она отвернулась, нашел бы себе скорую смерть. Это все ж милосерднее, чем терзания неизвестностью. Спасибо Бахтияру… вот смех-то: спасибо Бахтияру, лютому врагу, что сподобил осознать, до какого греха довела его темная сила злых страстей. Любопытно, что скажет или содеет Бахтияр, ежели князь Федор вдруг примется благодарить его за вразумление?
Воображаемая картина показалась настолько несусветной, что князь Федор не удержался от нового смешка – и тут же смешок сей сменился болезненным стоном, ибо дула с новой силой врезались ему в грудь.
– Ты!.. – взревел Бахтияр в ярости. – Будь проклят ты! Смех тебе – а ей смерть! Ты жив, похохатываешь – а она, пташка с крылом перебитым, не чает, как жизнь избыть, чтоб с тобой на небесах, в вашем русском раю соединиться! Только ей-то там место, а вот твою черную душу жестокосердную демоны в аду будут терзать! За что, ну за что ты ее так? Она ведь из-за тебя жизни решалась!
Князь Федор похолодел. Что он врет, поганый басурман? Все он врет!
– А, ты не ведаешь? – злорадно вскричал Бахтияр, заметив, каким смятением полыхнули светлые, дерзкие глаза ненавистного гяура. – Неужто? Ну как же! Что тебе до ее жизни и смерти! Что тебе до нее!..
Исступленный крик его оборвался, ибо, внезапным движением вывернувшись из-под стволов, князь Федор вырвал ружье из руки Бахтияра и швырнул в угол с такой силою, что от удара дуплетом ударили выстрелы, которых, впрочем, не заметили ни тот, ни другой: стояли, скрестив сверкающие взоры, и ежели б можно было убивать глазами, оба уже лежали бы бездыханны.
Князь Федор шагнул вперед – Бахтияр невольно попятился, обожженный этим горячим взглядом, и это был миг, когда он утратил преимущество внезапности: гяур оказался стремителен, как молния, и притиснул черкеса к стене, приставив ему кинжал к горлу. Достаточно было одного резкого движения, чтобы клинок вонзился в яремную вену – и прощай, жизнь.
Да что! Бахтияр не замедлил бы проститься с жизнью, ибо все равно не жил, а медленно истлевал от сердечной муки. Он с радостью кинулся бы на острие, но не мог отказать себе в последней радости – помучить негодяя, который, похоже, все еще сомневался, что он – негодяй.