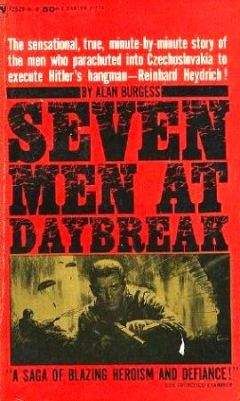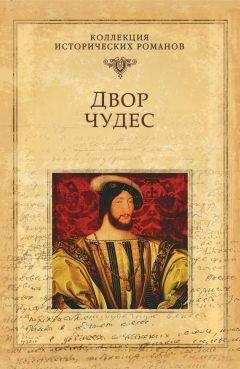— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду. Все это никому не нужно. И Брюсов сейчас говорит о добродетели. И Соллогуб воспевает барабаны. Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин!» Меня просили послать стихов. Послал. Кончаются они так: «Будьте довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы и мрак грядущих дней…» Вернули с извинениями, печатать не могут.
Елизавета говорила о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России искать своего Христа и в нем себя найти. Потом о самом Блоке, о его пути поэта, о боли за него… Они сидели в разных углах комнаты, в сумраке по близорукости Елизавета его почти не видела. Только тихий и усталый голос иногда прерывал ее…
Досидели до пяти утра. Елизавета собралась уходить.
— Завтра вы опять приходите, — сказал Блок. — И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.
И так происходило изо дня в день. Потом Елизавете казалось, что это был какой-то единый разговор, единая встреча, прерванная случайными внешними часами пребывания дома для сна, пиши, отдыха. Иногда разговор принимал простой, житейский характер. Он рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах:
— Я вообще не очень люблю чужие стихи. Однажды Блок заговорил о трагичности всяких людских отношений:
— Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. И все же ускоряет и ускоряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть и измена — близнецы, их нельзя разорвать. — И неожиданно закончил: — А теперь давайте топить печь.
Это было священнодействие…
На улицах царила молчаливая ночь. Изредка внизу, на набережной реки Пряжки, слышались одинокие шаги прохожего. Угли догорали. А Елизавета все пыталась ронять:
— Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас будто мы все, и вы символ всей нашей жизни. Даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи. И вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить — не можем, а если и могли бы, права не имеем. Таково ваше высокое избрание — гореть! Ничем, ничем помочь вам нельзя.
Он слушал молча. Вдруг положил Елизавете руки на плечи, посмотрел в глаза.
Почему-то она смутилась и поспешила уйти, а потом всю жизнь проклинала себя за это.
На следующий день ее задержали дома, так что пришла она позднее обыкновенного.
Александр Александрович, оказывается, ушел. Вернется поздно. Ей оставил письмо:
«Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо ВСЕ кончить. А. Б.».
Она не ушла. Она его дождалась, но разговора не получилось. Оба понимали, что для них следующий шаг может быть только один: в страсть. И оба (то есть ей хотелось так думать, что оба!) оказались к этому не готовы. На самом деле не готов был только он:
— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, очень весело. Не знаю, может быть, оно и ненадолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен.
Елизавета поняла: пора уходить. Блок неожиданно и застенчиво взял ее за руку:
— Знаете, у меня к вам есть просьба. Я хотел бы знать, что вы часто-часто, почти каждый день проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Как пройдете, так взгляните наверх. Это все.
Елизавета согласилась. Быстро простилась — по существу, простилась навсегда…
Теперь ей только и оставалось: смотреть на его окна.
Смотрю на высокие стекла,
А постучаться нельзя;
Как ты замерла и поблекла,
Земля и земная стезя.
Над западом черные краны
И дока чуть видная пасть;
Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная пасть.
На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.
Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней череду.
Я знаю: живущий к закату
Не слышит священную весть.
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть.
Смотрю на горящее небо,
Разлившее свет между рам;
Какая священная треба
Так скоро исполнится там.
Елизавета знала, что в их с Блоком отношениях не играют роли пространство и время, но чувствовала их очень мучительно — как никогда…
Сначала, готовя во Франции гонения на евреев, нацистские власти еще опасались общественного мнения. В ноябре 1940 года только евреи-иммигранты, беженцы из Германии, были собраны в лагеря и вскоре высланы обратно. Однако вскоре начали применяться репрессии и к французским евреям. Для начала понятие «еврей» получило конкретное определение: «Евреями считаются те, кто принадлежит или принадлежал к иудейской вере или у кого более двух еврейских дедушек или бабушек. Евреями считаются дедушки или бабушки, которые принадлежат или принадлежали к еврейской вере… В случае сомнения евреями считаются все лица, которые принадлежат или принадлежали к еврейской религиозной общине».
Это определение оказалось туманным. Многие подавали в суды иски, заявляя, что их неправильно причислили к евреям. Довольно часто такие прошения подкреплялись свидетельством о крещении.
Понятно, что теперь такие свидетельства требовались как можно большему числу людей, ведь это помогало избежать унижений, ограничений в правах, а часто и гибели. К отцу Димитрию Клепинину посыпались просьбы о выдаче таких свидетельств.
И отец Димитрий, и мать Мария предпочитали рискнуть собственной жизнью, чем оставлять в опасности жизнь тех, кто просил их о помощи, и довольно скоро выдали свидетельства примерно восьмидесяти новым прихожанам лурмельского прихода. Им приходилось сталкиваться и с тем, что многие не хотели креститься, а просто хотели получить «бумажки»… Это, конечно, оскорбляло русских монахов, однако они сейчас жизнь человеческую ставили превыше всего. Настаивали только на непременном свершении таинства, обряда, предоставляя право человеку в глубине души оставаться (или становиться) тем, кем он хотел. И, между прочим, были случаи, когда именно таинство делало человека истинным христианином, как произошло, например, с Ильей Фондаминским.